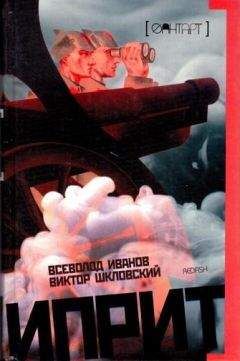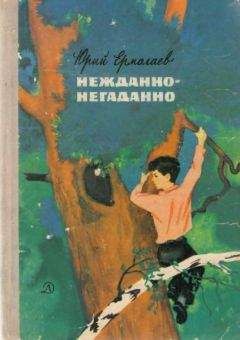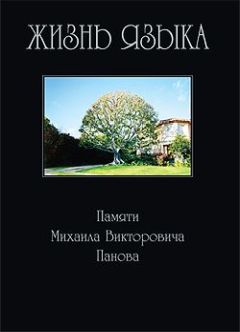Всеволод Иванов - Когда я был факиром

Обзор книги Всеволод Иванов - Когда я был факиром
Всеволод Иванов
Когда я был факиром
Вс. Иванов
Когда я был факиром
От доктора Воскресенского я ушел душевно усталым. Было такое чувство, словно я поседел в одно утро. Я думал, если доктор выдаст мне рецепт, то я, продав единственные свои брюки, смогу купить в аптеке кокаин. А продавать на пищу брюки и сидеть сытому без брюк — глупо.
Хозяйка моей комнаты, близорукая и с каким-то слезящимся носом, низко склонившись, читала по складам на столе афишу:
ПЕРВЫЙ РАЗ В ЗДЕШНЕМ ГОРОДЕ! ГАЛЛО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.
Выступает всемирно известный факир и дервиш!
БЕН-АЛИ-БЕЙ!
— Вы где ж обучались этому? — спросила она, кривя затейливо слезящийся нос.
— В Индии, — ответил я мрачно.
Да и что я мог бы ей иное ответить? Не рассказывать же ей, как за свою складную кровать вместе трех рублей я согласился взять у старьевщика две шпаги с маркою «Гамбург». Шпаги были совершенно похожи одна на другую. Только если всмотреться одна из них была цельная, а другая складная с тремя кнопками в рукоятке. Кнопки были белые, слоновой кости, что ли, и это меня более всего раздражало. Если надавить одну кнопку, треть лезвия уходила. Надавить другую-исчезала следующая треть. И, наконец, вся троица скрывалась в рукоятке.
— Вы ж этим какие деньги будете зарабатывать! — сказал мне ласково старьевщик.
Я убого скучал по ласке и по надежде. И поэтому я больше для себя ответил:
— Но ведь одной шпаги мало?
И тогда старьевщик прибавил мне растрепанную книжку, изданную, как помню сейчас, Холмушиным в Москве: «Руководство по черной и белой магии с присовокуплением карточных фокусов».
— Тут и найдете теперь вашу подробную жизнь, молодой человек.
И почти угадал ведь старик. Действительно произошла отсюда часть моей жизни.
Квартирная хозяйка моя страдала животом, и ночью во всей квартире горела только пятилинейная керосиновая лампочка в уборной. В моей комнатушке, конечно, ни лампочки, ни керосину нет. Тщетно в ту ночь хозяйка стучалась в уборную. Постоянно слышала она оттуда суровый голос: «Извините, но у меня, кажется, дизентерия». Это я изучал черную магию.
Утром я пошел в Народный дом, где труппа актеров из пяти человек ставила «Красный фонарь», «Евгения Онегина» и «Горе от ума». Когда я сказал Пудожгорскому (это был режиссер), что могу глотать шпаги, он косо улыбнулся.
— Шпаги, что шпаги? Когда это всем известно, что немецкая работа. Вот если бы вы могли гипнотизировать массы. Вынуть, скажем, глаз из орбиты и вновь его вставить на прежнее место. Вот это, понимаю, сбор… будет!
— До глаз я еще не дошел, — ответил я мужественно, — но я могу безболезненно прокалывать руки; грудь, щеки стальными дамскими от шляп шпильками, подвешивать на них гирьки до трех фунтов.
— Чего ж вы не говорили раньше?
— У меня шпилек нет.
— Достанем. У наших актрис. Как же вы, — спросил он не без уважения, до шпилек дошли, а до глаз не можете? — Он вздохнул. — Впрочем, на все наука и время.
И вот почему хозяйка читает громадную афишу. По этой афише мне, старому и хитрому индусу, вменяется в обязанность: «глотать горящую паклю, шпаги, прыгать в ножи и прокалывать безболезненно свое тело дамскими шпильками, подвешивая на оные гирьки до трех фунтов весом». Должно было еще в афише значиться, что я беру раскаленное железо голыми руками, но такового опыта я не мог проделать. Подвела «Черная магия» Холмушина. Там говорилось, что нужно натереть руку яичным желтком, смазать клеем и посыпать «одной частью крупно истолченного порошка осолодки». Я так и сделал в точности. Затем накалил легонько самоварные щипцы и приложил к ладони. В комнате запахло горящим мясом, и хозяйка прибежала на мой вопль. Я мочил руку в простокваше. Хозяйка, поджав тощими руками живот, соболезнующе смотрела на меня и на испорченную простоквашу. Мне тоже было жаль простоквашу. Я был голоден и думал с презрением, что только наружные и внезапные мои страдания заставили хозяйку пожертвовать мне простоквашу.
Один раз в три дня меня кормили обедом в монастыре, что стоял над зеленым Тоболом. Были в монастыре зеленые колокола и откормленные сизые голуби, на которых облизывались кошки и я. Между прочим, все, что я видел тогда, мне хотелось съесть или выменять на съедобное. Монах, наливавший мне в деревянную чашку постных щей, спросил:
— Занозил, что ли? — и добавил с любовью: — Не из плотников?
— Итальянская гангрена, — ответил я с пересохшим горлом.
Монах умилился глазами. От жалости и от удивления дал мне лишний ломоть хлеба.
— В Италии-то, — сказал он с презрением и любопытством, — совсем, говорят, нету деревянных домов?
— Окончательно, — подтвердил я, — камень и вулканическая лава.
— Выходит, — спросил он с легким страхом, — там и плотников нету?
— Тебя как зовут-то? — спросил я.
— Евсей в пострижении буду.
— Плотник, что-ли?
Монах обрадовался, положил мне еще ломоть. Подобрал полы подрясника с замасленной скамьи.
— Как же, как же… пермской я, пермской. У нас там все святители кельи рубили! Христос ведь тоже плотником был.
Евсей низко наклонился ко мне, сунул еще ломоть и тихонько спросил:
— Ты вот книги поди читаешь: потому — очки. А не прописано там где-нибудь, действовал Христос фуганком или топором все чесал?
Я промолчал, а после обеда Евсей отозвал меня в сторону, к монастырским воротам, где выли слепцы и ерзались жирные голуби.
«Поди, парень, — подумал я, — ты и в бога не веруешь?»
Я был сыт, весел, тайное звание факира выпрямляло мою жизнь, я часто думал об Индии, сочиняя вступительную лекцию к моим опытам. Все же мне не хотелось обижать хлебосольного Евсея, видимо ушедшего в монастырь только потому, что и Христос был плотником.
— Ты в театре был когда-нибудь, отец? Ну, на представленье?
— Не доводилось.
— Я тебе билет дам, Евсей!
— А ты что там робить-то будешь?
— Огонь глотать и тело колоть без боли… Евсей отшатнулся. Серенький истрепанный подрясник сразу стал светлее его конопатого лица.
И бороденка так резко выделилась, будто выстругали ее. Руки были у него легкие, но все-таки он не мог их поднять, чтобы перекреститься.
— Сатана-а, — прошептал он, — ты чего смущаешь меня, сатана неверующий! — Затем он выпрямился, кинул вперед руки и глухо проговорил:- Я не зрю, зачем я тебе надобен, а я тебя обличу. Иль ты меня бога лишить хочешь? Бога я тебе не отдам. Ты хитришь, сатана!
Он вытянул легкую свою руку, я вложил туда контрамарку и ушел.
Едва появились на дощатых заборах широкие мои афиши, как в номерах, где стоял Пудожгорский, обнаружились какие-то ветхие старушки, желавшие меня видеть — мага, чародея и отгадывателя. Пришел чиновник из уездного казначейства, просчитавшийся на пятьсот рублей и желавший узнать, вернут ли их. Пудожгорский взял с него рубль и сказал, что ответ будет завтра письменный. Являлись барышни за приворотным зельем. Любопытствующий купец, желавший знать: какова на вкус в Индии водка и почем бутылка, и успеет ли он ее выписать к своим именинам. Сердце мое билось так же быстро, как моя слава. И, как сердце, бились в кассе билеты.
Мальчишки, ловившие на железные обручи, обтянутые сеткой, раков из Тобола, думали ли они, что угрюмый человек, сидевший на яру над ними и тупо перелистывавший «Магию», есть тот знаменитый факир, чья молниеносная слава всколыхнула тихий городок?
Нас теперь трудно удивить. Как правило, мы перестали быть наивными. В последний раз я видел удивление на улице — это когда стали продавать свободно черный хлеб и еще, позже, когда из Бухары привезли в Москву слона. Но и то удивление было такого сорта: «Что, мол, слоны? Через год у нас сотня слонов от него расплодится. Только удивительно то, к чему бы нам слоны?»
Тогда были другие времена. Времена хуже, но смешнее. Я теперь горд и высокомерен и тоже научился не удивляться. Мне даже не умилительно вспомнить, как я мазал коричневым гримом лицо, навязал на голову зеленую повязку, пахнувшую клопами, ноги мои прикрывались кумачовыми штанами, вправленными в кавказские сапоги. Пудожгорский, заикаясь и подмигивая глазом, похожим на букву «з», хвастался сбором. Рядом с гримом на опрятной тарелке, вычищенные мелом, отвратительно блестели громадные шпильки. Тут же украшенные петлями из выцветших лент с остатками — запаха гелиотропа лежали гирьки «от одного до трех фунтов». Были тут и немецкие шпаги, и факел, и бензин, и ножи в обруче, через который я должен прыгать.
На сцене оркестр вольно-пожарного общества пил водку, закусывая печеными яйцами, и пальцами пробовал: настроены ли инструменты. Инструменты были духовые, и мне казалось, что музыканты 'вместе со мной понимают, что ничего из нашего представления не выйдет. Завтра на меня весь город будет показывать пальцами, мальчишки хриплыми осенними голосами будут орать: «Факир-р, стерва-а!..» Мальчишкам забавно, что к обтрепанным штанишкам вязнут осенние листья, а мне эта осенняя слякотная лирика давно надоела, я хочу хорошего жирного супа с клецками, папирос «двадцать штук семь копеек» и грубую книгу, которая бы над многим смеялась.