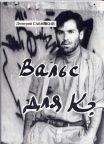Дмитрий Савицкий - Лора

Обзор книги Дмитрий Савицкий - Лора
Савицкий Дмитрий
Лора
Дмитрий Савицкий
Лора
В последний раз я ее видел на Пушкинской. Она спешила куда-то под крупным медленным снегом. Я хотел окликнуть ее, но не решился, и она прошла совсем близко, так, что на меня пахнуло знакомыми духами. Снег начал уже закрашивать ее на зебре перехода, но вспыхнули лиловые уличные фонари, и она мелькнула в последний раз возле углового армянского магазина.
Всего этого больше нет: снега, падающего завораживающе медленно, чугунных лампионов, Лоры. Ночные улицы Парижа освещают витрины магазинов и террасы кафе. Со снегом плохо. То есть в горах его сколько угодно, но то в горах. Единственно, где мне опять померещилась Лора, это в Нью-Йорке. Был февраль, и от Лексингтона до Парк-авеню нужно было пробираться, как в Арктике,согнувшись вдвое, ложась на ветер, скользя и карабкаясь через сугробы. Впереди меня мелькала знакомая скунсовая шубка, снег слепил, и я не мог при всем желании рассмотреть спешащую женщину. Но в какой-то момент мне показалось, что это она, Лора. Фонари светили мертво и дико, как в Москве, буксовал кеб такси в снежной каше, вдребезги пьяный верзила пытался прикурить на ветру, терял равновесие, зажигалка гасла, и он, выругавшись, швырнул ее в темноту. "Лора?" - крикнул я против ветра, прекрасно понимая глупость и невероятность положения. Женщина повернулась. Это была черная девушка с настороженным, но мягким взглядом. Я извинился и проскочил мимо.
И вот теперь душным вечером в кафе на Шатле она сидела за соседним столиком, пила кофе и смотрела в окно. Она не изменилась. Волосы были так же высоко подобраны, обнажая шею. Та же нитка тусклого жемчуга, единственное, что осталось от матери, ссыльной пианистки, спадала в вырез платья. Я помнил движение, которым она расстегивала колье: высоко поднятые локти, две шпильки в зубах, отсутствующий взгляд. У нее было свойство затуманиваться. Температура человеческих отношений действовала на нее, как дыхание
на стекло. Она то теряла прозрачность, то была видна насквозь до неприличия. Гарсон принес мой коньяк и стоял, дожидаясь денег. Не глядя, я протянул ему сотню, я боялся оторваться взглядом от столика Лоры, -словно я сам вызвал ее появление напряжением заслезившегося взгляда и любое переключение энергии, внимания, излучения могло размыть ее, как сквозняк открытой двери клубы табачного дыма. Она смотрела в сторону подсвеченных струй фонтана, но не знаю, видела ли. Боже! Как был мне знаком этот поворот шеи и эта привычка перемаргивать, меняя фокус взгляда. Пожалуй, я знал лучше это глупое перемаргивание, чем балки потолка над моей кроватью за пять лет парижской жизни.,
Она достала сигареты и спички, постучала сигареткой по пачке, как это она делала раньше с папиросой, зажгла спичку и задумалась. И это было мне знакомо до какой-то внутренней щекотки - зажечь спичку и забыть про нее. Она вздрогнула от ожога и бросила спичку в пепельницу, где тут же вспыхнул маленький пожар. "Пироманки обязаны выходить замуж за пожарников" - это был предел остроумия ее брата, офицера каких-то замысловатых войск. Гарсон кончил отсчитывать сдачу и отошел. Мысль о том, что она делает здесь, в ночном кафе, где меломаны обсуждали только что закончившийся в соседнем театре концерт полуживого короля джаза, как-то не возникала. С одной стороны, я прекрасно знал, что она невыездная, с другой - я отвык от непроницаемости слова "граница". Продавщица цветов с кокетливой корзиночкой и измученным взглядом пробиралась меж столиков. Слабый запах жасмина мгновенно вызвал к жизни поворот темной после дождя аллеи и переплеск недалекой волны. "Откуда?" спросил я бархатный рукав. "Из Туниса",- был ответ. Я купил к черенку аккуратно привязанные, в букет собранные цветы жасмина и встал. Невидимые руки уже закрывали окно, аллея вспыхнула и погасла. "Лора..." - позвал я ее. На лице моем медленно прорастала виноватая улыбка. Я знал, что будут слезы, что будут скомканные из разных эпох слова, что мы отправимся к ней или лучше ко мне; я уже подумывал о том, что, несмотря на то что до дома рукой подать, лучше взять такси... Она наконец очнулась и посмотрела на меня. "Лора... - Я все еще улыбался.- Это же я!" Она ткнула сигарету в кофейную чашку, жест, который я никогда не одобрял, быстро-быстро высыпала на стол мелочь, и я услышал нечто нечленораздельное по-французски. В следующую секунду она вскочила. Какое-то время мы стояли друг против друга. Я, видимо, протягивал ей жасмин. "Послушай, - на нас смотрели со всех сторон, - давай поговорим. - Я попытался взять ее под локоть. Она продолжала по-французски. - Неужели и через пять лет ты не можешь мне простить какой-то чепухи?" Она вырвала руку и бросилась к двери. Подскочил гарсон, но, увидев, что за кофе заплачено, лишь смахнул со стола и унес пепельницу. Я вернулся за столик. Жасмин был телесно-розового цвета. По эмигрантской привычке я перевел ее испуг на язык шпиономании, назначил ей свидание в кафе с толстым, в роговых очках резидентом, перетасовал карты и напялил на нее вуалетку и шляпу, но Мата Хари из нее не получилась. Неужели она не узнала меня? Неужели она исчезла навсегда? Какое пошлое слово. Слово мертвое для философии, слово с дурным привкусом понимания смерти. Я залпом допил коньяк и вышел на улицу. Сухая гроза картавила над крышами. Огромный краб в аквариуме рыбного ресторана глазел на прохожих. Я остановился. И, рассматривая лязгающие по отражению моего лица клешни, я все понял. Конечно! Я же сбрил бороду! Бедная, затравленная Лора в чужом городе, быть может, только что сбежавшая из отеля, от чутких товарищей по группе, со школьным запасом французского бормотания, Лора, к которой, конечно же, лепились лениво-наглые мужланы и которых она не могла отбрить по-русски с московским шиком... Боже мой! Конечно же, я совсем изменился. Даже тогда, в России, когда я сбрил бороду в первый раз и, вернувшись домой с голым, как пятка, лицом, не открыл дверь своим ключом, а позвонил, мать, отворив дверь, глядя в упор и улыбаясь, сказала тогда: "А Саши нет. Заходите попозже..." Краб шлепал клешней, пытаясь оттяпать мое ухо. Такой клешней хорошо стричь колючую проволоку. Я повернулся уходить, и угол зоны возле пятого поста медленно наплыл на карнавальную Сен-Дени: солнце, наколовшись на колючки предзонника, кровавило снег; на ветке ели кемарил снегирь; в дверях секс-шопа хихикала парочка.
Я стал бывать в кафе каждый день. Гарсоны привыкли ко мне, хозяин кивал из-за стойки. Я был смутно уверен, что наша встреча допроявится в ее голове и она вернется. И она пришла. Было время ленча, и кролики с крольчихами пожирали салат на террасе. Пьер, лысый гарсон лет двадцати пяти, выкатывал на улицу пустые пивные бочонки. Она стояла в дверях, дожидаясь, когда освободится проход. Темно-зеленое, цвета дачной хвои, шелковое платье было на ней. Волосы перехвачены такой же лентой. Единственно свободный столик был за моей спиной. Она, поднимаясь на цыпочках, пробиралась меж стульев. Я встал ей навстречу. Секунду она смотрела на меня, потом повернулась и вышла.
Прошло еще две недели. Однажды я видел, как она мелькнула на выходе из метро. Я выскочил с салфеткой в руке, но ее уже не было. Толпа сожрала ее толпа между Риволи и набережной провинциально прожорлива и самодовольна. Каждый раз, попадая в ее бурление, я теряюсь. От меня не остается ничего, кроме тупого раздражения. Как сумасшедший я пробираюсь сквозь эти ленивые волны человеческого мяса и, вырвавшись, еще долго прихожу в себя.
Итак, она или жила рядом, или... Я все чаще, сначала смеха ради, а потом как вполне допустимую версию, трогал зазубренную мысль о явочном кафе. В конце концов, агенты - это и есть наши бывшие одноклассники и любовницы. На Мальте, во время дипломатического коктейля, встретил же я Валерку Ушкина, с которым прошло мое дачное детство. Я был
достаточно пьян, чтобы сообразить в долю секунды, что мне лучше не узнавать его. Я издали любовался им. Лощеный, без тени напряжения перескакивающий с языка на язык. Его готовили в Японию, и на японца он был теперь похож- язык разрабатывает адекватные мышцы лица. Интересно, под каким паспортом он путешествовал? И тогда почему бы и не Лора? В конце концов, рутина жизни агента - это не прыжки с поезда на полном ходу, а именно вялое посещение забегаловок и какие-нибудь невзрачные кивки головой.
Подобной чушью я и питался, сидя за пивом или сотерном. Выехать просто так она не могла из-за брата. Он был щитом и мечом, носил синие погоны и занимался вещами, враждебными научному марксизму,- исследованиями парапсихологии. Я терпеть его не мог. Самоуверенный, наглый тип, покрытый особым советским лоском. Любой фанерно-мраморный сезам открывался ему, стоило лишь показать краешек служебного удостоверения. В итоге, лишь бы ему насолить, не думая о том, ранит ли это Лору, я отбил у него егозливую хохотливую девицу. Признаком любого серьезного события зачастую является глупость. Она отворачивает изнанку рока. Лора ушла от меня. На руках у меня осталось шаловливое девятнадцатилетнее дитя, с которым я совершенно не знал, что делать. Снег начал падать в ту эпоху моей жизни. Не только сверху или сбоку, но и изнутри. Уехал Симонян. Смылся на надувной лодке через Эвксинский Понт Гера Чуйков. Сема Голштейн остался на гастролях. На месте Москвы образовалась густонаселенная пустыня. Я тоже подал на выезд. Как ни странно, помог мне уехать именно ее брат. До этого мне вполне непрозрачно намекали, что уехать я могу, но не на Запад, а на Восток. Но голубоглазый капитан, начальник штатных ведьм и хиромантов, нажал какую-то кнопку, и меня вышвырнуло из рая. Очнулся я в Париже. Жизнь была прекрасна, и единственно, чего мне не хватало,- его сестры.