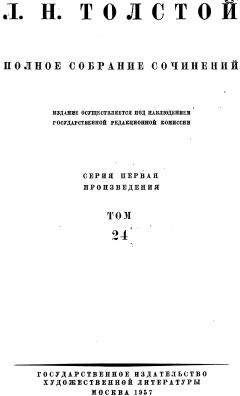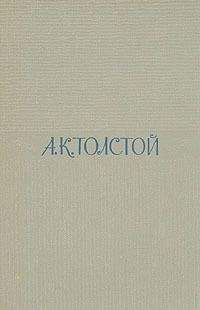Василий Кондратьев - Сказка с западного окна

Обзор книги Василий Кондратьев - Сказка с западного окна
Кондратьев Василий
Сказка с западного окна
Василий КОНДРАТЬЕВ
СКАЗКА С ЗАПАДНОГО ОКНА
При запутанных обстоятельствах девяносто первого года, когда сама надежда, кажется, оставлена "до выяснения обстоятельств" (тех самых, которые редактор у Честертона записал поверх зачеркнутого слова "господь"), нет ничего лучше рождественской истории на американский лад. Не потому, конечно, что из пристрастия ко всяческому плюрализму и соединенным штатам мы скоро, наверно, запутаемся в точном числе праздника Рождества. Просто история, связанная с Романом Петровичем Тыртовым, петербуржцем, столетие рождения которого скоро будут повсеместно отмечать в Америке, и в Европе, составляет саму сказку мечты, процветания и звездного блеска, легенду, которой мы любим предаваться, полеживая у окна на западную сторону. Нам не хочется верить в сказки, но воспоминания и сохранившиеся иллюстрации можно, ничего не выдумывая, перемешать так, чтобы вышел примерный калейдоскоп.
История начинается в Петербурге, в четвертом доме по Зоологическому переулку, недалеко от крепости. Впрочем, по адресной книге спустя почти вечность трудно сразу найти то, что нужно: Тыртовы были известной фамилией военных и моряков, среди них были и генералы, и адмиралы, как отец Романа Петровича. Мальчик рос в имперской столице, ее роскошество, вольные летние месяцы в усадьбе, тихие прогулки по богатым коллекциям Эрмитажа, мама, дама того самого типа, который парижские художники начала века прославляли как "Les Elegantes", любившая во всем вкус и моду, все развивало в нем легкий, мечтательный нрав, приглашающий к таким путешествиям, которые начинаются как со страниц видовых альбомов из отцовской библиотеки, картин Сиама, Индии и Персии (говорят, что персидские сады дали само название "парадиза"), так и журналов мод с их светским, неудаленным блеском, фантазией очевидной, сочетающей красоту, волю и, разумеется, успех. Больше всего этот мальчик любил рисовать, он и буквы выучился рисовать, как картинки, такие же, которые рассматривал в своих любимых маминых журналах, где авторства в те времена не чуждались ни Бакст, ни Кузмин. Возможно, для него все началось тогда, когда он шести лет нарисовал платье, которое, как это было ни чудно, захотела и сшила себе мама. Когда мальчик подрос, он стал ходить слушателем к Репину, а рисунки посылал в "Дамский Мир". Этот журнал так охотно печатал его модели и фантазии, что дальнейший путь юноши определился. Вступив на этот путь, он был вынужден отказаться от своей осененной боевыми знаменами фамилии ради нового nom de guerre, которым к девятьсот двенадцатому году стало "Р.Т.", Эрте. В столетие Бородинской битвы г-н Ромэн де Тиртофф оказался в Париже, рекомендованный как корреспондент петербургского "Дамского Мира", с запасом рисунков, моделей и всяческих намерений. И все это оказалось в корзинке для бумаг, а его выгнала из своей маленькой мастерской мод мадемуазель, которой надоел изнеженный юноша-студент, не имеющий - да, мсье! - никакого таланта не только кутюрье, но даже и художника. Ромэн очень вежливо попросил разрешения забрать эти, вероятно ненужные, бумажки, вынул их из мусора и вышел. На улице, как ему показалось, шел снег, падавший обрывками любовного письма из рук девушки, плачущей над замерзшей статуей амура. Это называется "Конец одной идиллии", и не снег, а белые печальные цветы осыпаются с дерева на девушку, струятся ее слезами в ручей. Не дерево, зонтик. К тому же солнце так ярко, что эта белая вьюга в зеленом парке - только пух, пыльца, летний снег, а неудачи, печали - разве что тронутая чувственность, картинка, заставляющая обложку журнала запомниться навсегда. Фантазия, спичка, неверно затеплившаяся в ладошках маленькой Тюхэ, продрогшей у модной витрины одного из бесчисленных переулков зимнего Парижа, стоит подарков с елки. Даже тот, кто всего однажды провел долгую рождественскую ночь в холоде, без надежды, навсегда сбережет этот колеблющийся огонек, на память о том, как впервые кристалл, потревоженный им, зажег зеркала в тот мир, которого - как понять? - и не возникло бы. И мы знаем, что хотя в спальне г-на Ромэна и не стояло игрушки, вертепа, звезда, а может быть, просто яркая петарда, вспыхнула у него за окном. Утром его горечь несколько смягчилась, после ванны, когда, за столом, к нему всегда приходили лучшие, удивительные мысли. Он взялся за письмо, и когда дошел до буквы "Р", она вдруг поплыла, хрупкой нагой девушкой на осеннем листе, а ветер задул ее длинные волосы. Молодой плющ открыл другую девушку, которая раскинула руками свою кружевную шаль, так, что получилось "Т". Все знаки, буквы и цифры, пока он писал, закружились в балете, похожие на хороводы апсар под сводами индуистского храма: двойка, перо, выстрелившее из диадемы мулатки, пятерка, сфинкс... Но конверт, ожидавший его еще не разрезанным, все же скрывал в себе нечто, превосходившее воображение. Это было приглашение, подписанное Полем Пуаре. Пуаре был тогда князем парижской моды, но, пожалуй, и больше того. В свое время, когда Париж еще только начинал перестраиваться, он выстроил особняк на невыигрышной окраине, заметив, что будет, и Париж сам обустроится вокруг дома Пуаре. Это случилось. Поля Пуаре не зря называли парижским шахом, не только потому, что он устроил непревзойденный до сих пор "Бал Шехерезады". Он определял элегантности. Он первым освободил дамское платье, сделал его сказочным; он первым провозгласил "стиль русских балетов", открыл новые декоративные ателье, пригласил в свой дом художников, создавших публичную славу нового стиля, Ар Деко: Лепапа, Ириба, Барбье и Эрте. Это был человек, который если не сам был рожден сказку сделать былью, то щедро создавал для этого других. Все завершают, и начинают, аплодисменты. На следующий, тринадцатый год, именитый театр "Ренессанс" открыл новую феерическую постановку по "Минарету" Ришпена. Когда раздались привередливые парижские рукоплескания, на сцену вслед за исполнившей героиню Мата Хари вышел художник, молодой, высокий и элегантный, похожий на римлянина, Эрте. Он еще очарует бесчисленные театральные залы, одно их перечисление грозит превратить сказку во всеобщую историю "века джаза". Здесь мюзик-холл "Фоли-Бержер", "Ба-Та-Клана", "Зигфелд Фоллиз", "Альгамбры", "Мулен Руж", оперные залы "Адельфи", "Метрополитан", Чикаго, Барселоны, Лазурного Берега, и Бродвей, и еще многое. Начавшиеся с иллюстраций к повестям Ле Галлиена и Лорда Дансени в "Харперз Базаар", обложки, заставки и модели Эрте наполнят и "Харперз", и "Скетч", "Фемину", "Космополитан", "Иллюстрасьон", оживут в голливудских фильмах, будут отлиты в бронзах, вытканы в коврах, тканях - чтобы в нашей памяти по мановению кисти волшебника стал прекрасный женственный образ. Эрте сотворил женщину эпохи. Так скажет написавший о нем книгу Ролан Барт. Если прочесть заново древнюю легенду, кинематограф и мода, сотворив Диву, заспорили, кто вызвал ее к жизни. "Великий Немой" создал явление, его славу. Но только мода дала неизбывные, всегда желанные очертания мечты. Как ваятель, Эрте вылепил ее черты. Как портной, он одел ее вольными, прихотливо цветущими орнаментами тканей, плетения и перьев, соединив греческую простоту с роскошью Персии и Индокитая. Как ювелир, он украсил ее с изобретательностью престидижитатора нитками нефритовых и жемчужных бус, складывающимися, платиновыми подвесками и кольцами в бриллиантах, масками из ожерелий и шелка, из омелы, из страусовых перьев, выложил золотом и камнями, в виде часиков, очков и заколок, замшу, лаковое дерево и соломку. Наконец, как чародей, он дал ей и душу; но душа странница и переменчива, чтобы увидеть ее близко, нам нужно перенестись назад, в Петербург, проживший войны, революции и крушение, потерявший и само имя.
Это лицо, полускрытое маской из шелка, нефритовых бус и перьев, напоминает один роман, роман, названный так по причине и литературной, и романтической. Одной из первых милых, уютных выставок, устраиваемых ахматовским музеем во флигеле Фонтанного Дома, была небольшая комнатка, отведенная под акварели, коллекции и редкостные сегодня книги Юрия Ивановича Юркуна, писателя, едва раскрывшегося и сразу же исчезнувшего, расстрелянного и сгоревшего в самые отвратительные советские годы. Юркун был мечтатель и дэнди. Возможно, что вслед за написанным Д'Орвильи, Бирбомом и Дидекерке некогда появится и очерк советского, особенно ленинградского, дэндизма, явления героического, как все советское. Юркун был человеком породы, которой завидовали и которую пародировали футуристы, но от которой и остались одни пародии. Он мог бы считаться первым русским сюрреалистом, если бы все это вполне сохранилось. К слову сказать, он, как и мессия этого движения, Жак Ваше, обожал журнальную графику, это заметно и по их очень похожим рисункам. Журналы, вырезки, альбомы картинок были у него в целом собрании. Они заменяли ему путешествия, города, по которым ему было не суждено пройти, но которые все соединились для него в один. Нам не трудно представить себе Ленинград, Летербург, город фантастических, абсурдных неочевидностей. Комнату, кабинет коллекции, составляющей карточный домик тепла, уюта и сердца. И мечтателя, сидящего с папиросой у окна на западную сторону, рассматривающего такие дали, которых, наверное, никогда не было. Не исключено, что это "Харперовский Базар" с картинками к рассказу Лорда Дансени, где человек гашиша, покинув свое тело в серой, затерянной в ненастных кварталах комнате, бродит по городам в пустыне, отдыхает среди древних развалин, удивляется райским садам, в сиамском дворце стоит на приеме императора, наблюдая, как плавится и кипит бандж в золотых чанах, превращаясь в кровь; очнувшись на званом вечере, он рассказывает свою историю нашему герою, выходит в окно и не возвращается никогда. В двадцатые годы Юркун составлял странный роман, его по-разному называют "Туман за решеткой", "Туманный город", "Дело о многомиллионном наследстве", "Нэлли", возможно, найдутся еще названия. Роман, кроме отрывков, не сохранился; иногда кажется, мог ли он сохраниться в рукописи, и насколько сама жизнь его автора составляла с этими отрывками целое. Дневниковые записи, записанные сны переплетаются со снами героини, маленькой миллионерши, и картинами сиятельного города. Как в стихах, обращенных к Юркуну: