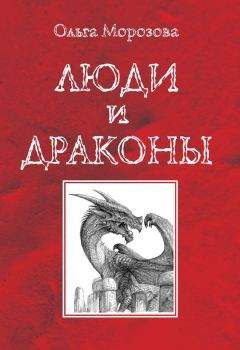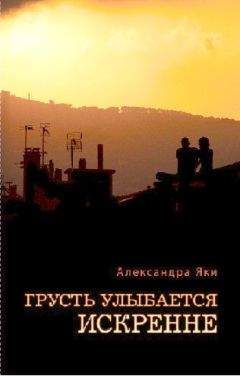Николай Телешов - Начало конца

Обзор книги Николай Телешов - Начало конца
Телешов Николай Дмитриевич
Начало конца
Николай Дмитриевич Телешов
НАЧАЛО КОНЦА
Из цикла "1905 год".
I
Ларион Девяткин был человеком среднего возраста, когда наступил девятьсот пятый год, с его небывалыми до тех пор грандиозными политическими забастовками: то останавливались текстильные фабрики, то бастовали кожевенные заводы, то типографии и газеты, то еще какие-нибудь отрасли производства.
Девяткину многое из всего этого казалось нелепым ч даже вредным для людей низкого звания, к каковым причислял он и самого себя. Он был уверен, что это скандалила из-за войны рабочая молодежь, которой не было охоты идти в солдаты, чтобы быть угнанной немедленно в Маньчжурию, где японцы трепали царских генералов, постыдит шептавших о "терпении и терпении"... "Труса празднуя", вот и выдумали эти политические забастовки и отягчали ими и без того тяжелое для всех положение. Многие сверстники Девяткина тоже были взяты в свое время в армию как запасные, и что с ними случилось, живы они или нет, изуродованы или целы - ничего никому до сих пор неизвестно.
Сам он по болезни сердца был освобожден от военной службы, и встреча с японцами ему никак не грозила. Но вот война кончена, армии возвращаются... Чего же ради теперь скандалить и бастовать? Это было ему совершенно непонятно и даже до некоторой степени обидно.
Еще с мальчишеского возраста Девяткин работал в московском первоклассном ресторане; сначала мыл посуду и бегал на побегушках с мелкими поручениями, а потом занял место штатного официанта и пользовался общим доверием как хозяев, так и гостей.
Подошла осень, и разрастающиеся забастовки начали задевать теперь и самого Девяткина, а не хозяев-нанимателей, на которых ссылались как на врагов рабочего класса.
Остановились, наконец, конки и окраинные трамваи, так что ходить на службу приходилось пешком, а это было не близко и трудно. Остановились и железные дороги, а жена Девяткина с двумя ребятишками жила при станции Люберцы, верстах в двадцати от Москвы, у своего брата, железнодорожного слесаря. Все сношения с ними прекратились, и это было очень досадно и неудобно, особенно в такое тревожное время... Вспыхнула всероссийская почтово-телеграфная забастовка, и узнать что-нибудь о семье стало окончательно невозможно. Остановился газовый завод, погасло электричество, и Москва погрузилась во мрак; забастовали хлебопекарни, замер водопровод. . Все это вместе взятое так стиснуло жизнь, что среди темноты, пустоты и полной неуверенности за завтрашний день становилось все более и более жутко.
Наконец, подошли однажды огромной толпой к ресторану забастовщики и потребовали всех служащих к себе, на улицу, угрожая в противном случае хозяевам разбитием стекол, а служащим - занесением их имен на черную доску. Когда все они, служащие, вышли на улицу, толпа радостно приветствовала их, называя товарищами, и, вобрав их в свою гущу, потекла к следующему большому ресторану снимать с работы других.
С каждым новым пунктом толпа значительно увеличивалась. Теперь она представляла собою что-то очень внушительное. Девяткин шел в этой возрастающей толпе, но старался ни с кем не разговаривать, а только подчинялся чьей-то воле и не понимал, для чего все это делается и для чего вовлечен в это дело он, вовсе не желающий ни бастовать, ни скандалить. В таком настроении проходил день за днем...
Но вот настал момент, когда и его самого захватило тревожное настроение. Было около часа дня. Он служил, как обычно, в своем ресторане, в большом зале, подавая завтраки, весьма скудные, без белого хлеба, в значительной комбинации из картофеля и капусты. Несмотря на солнечный октябрьский день, в огромном зале, рассчитанном на электрическое освещение, было вот уже много дней серо и скучно. За большим круглым столом, который обслуживал в этот день Девяткин, сидела компания артистов, пришедших в ресторан поесть чего-нибудь вкусного, так как дома, по их словам, буквально не из чего готовить. Но и здесь условия были не из блестящих. Скучно и серо было везде. Разговаривали тихо и вяло за всеми столами. Вдруг вбегает в зал небольшого роста человек в сером пиджаке и, помахивая над головой экстренным прибавлением к газете, громко говорит, подходя к группе артистов:
- Высочайший манифест! Кон-сти-ту-ция!
Листок газетной бумаги выхватывается у него из рук, все глаза жадно устремляются на печатные колонки, головы наклоняются над листком, пальцы бегают по строчкам.
Читают сразу несколько человек, быстро, кое-как ища главного, и вдруг раздается на весь зал восторженный громкий бас знаменитого певца:
- Конституция! Ура!
- Ур-ра!! - подхватывают другие артисты.
Весь зал притих. Все замерло в ожидании, все взоры устремились на артистов.
Догадливый метрдотель распорядился скупить у газетчиков целую пачку этих листков, которые нарасхват разобрала публика в одну минуту.
- Конституция! - раздавалось восторженно и тут и там. - Конституция!
Жали друг другу руки, поздравляли; многие целовались.
И в этот момент все люстры, и бра, и настольные лампы вдруг засветились. После многих дней темноты блеском, радостью и победой засиял мрачный зал.
- Ур-ра! Ур-ра!! - загремели голоса, и бурные аплодисменты слились с восклицаниями:
- Браво, рабочие! Молодцы! Добились!
Ликование захватило всех, в том числе и Девяткина. Он только сейчас понял, что не зря переживали люди тяжелые дни, не напрасно бросали работу, останавливали фабрики, железные дороги, почту, электричество. И вот, когда все увидели, что без рабочего народа жизнь не может идти правильно, когда сделали то, что нужно, - вот и электричество засветилось, и вагоны пойдут, и жизнь закипит снова и лучше прежнего.
Радостное, праздничное настроение овладело всеми присутствующими. Многие потребовали вина, а артисты заказали шампанское.
- Да побольше! - весело крикнул знаменитый певец вдогонку Девяткину. От такой радости сам напьюсь, извозчика своего шампанским напою! И лошадь напою!
Весело улыбаясь и пошучивая, артисты вышли из-за своего стола и поднялись на пустую эстраду, где стояло пианино.
- Споем, ребята, на радостях! - говорил певец товарищам. - Восславим освобождение!
Мгновенно образовался хор, и зазвучала знаменитая рабочая песня "Дубинушка", всем известная, пережившая свой век под запретом.
- "Но настала пора, и поднялся народ, разогнул он согбенную спину, гремел в огромном зале могучий голос певца, - и, стряхнув с плеч долой тяжкий гнет вековой, на врагов своих поднял дубину..."
- "Эй-эй, дубинушка, ух-нем! Эй, зеленая, сама пойдет, сама пойдет!" стройным хором откликнулись запевале артисты.
- "Подёрнем! Подёрнем!" - вмешалась в песню восторженная публика и всем залом, вместе с артистами, вместе со служащими и официантами громогласно протянула в заключение:
- "Да у... х... нем!"
Увлечение овладело всеми. Кто же не знал этих слов, кто не знал этого припева! Пели все, от мала и до велика.
Кто не умел петь или у кого голоса не было, тот сочувственно гудел, но все же принимал участие. Все были взвинчены, все были горды, все ликовали.
Артисты долго еще не уходили из ресторана, пили шампанское, потом .кофе. Часа два прошло, они все еще сидели.
К их столу нередко подходили знакомые, поздравляя их и целуя.
- Чему вы рады? - мрачно сказал один из вошедших. - Чему?.. Вы здесь сидите да ликуете, а у заставы настоящее побоище. Полиция делает свое дело: отнимает у людей газетные листки и разгоняет толпу палками, многих арестовывает. В полицию из толпы полетели камни, а в толпу - пули. Чему тут радоваться?
Сразу все умолкли.
Девяткин, стоявший в это время у самого стола, вдруг ударил себя обеими ладонями крест-накрест по груди и, глядя в упор в глаза говорившему, прошептал в ужасе:
- Как?!
II
Осень стояла тихая, безветренная и сравнительно сухая.
В Москве на бульварах и в палисадниках по Садовым улицам листья с деревьев уже осыпались, и оголенные ветки прихотливым кружевом чернели на ярко-багровой полосе вечерней заря. Эта огненная полога недотго пылала на небе, затем бледнела и угасала. Но она многим и многим напоминала о том, что творится где-го там, в глубине России, в черноземных губерниях, о чем идут слухи, долетают тревожные вести. Пылают помещичьи усадьбы, горя г амбары с зерном, а черная сотня громит в городах еврейские кварталы, избивает интеллигенцию; войска усмиряют крестьян, а крестьяне требуют правды и земли. Но и в войсках неспокойно. Армия возвращается с войны гневная, непослушная, нетерпеливая. Под Петербургом волнения, на Черном море взбунтовались матросы.
Обо всем этом говорилось везде и ежедневно. Разумные суждения, нелепые догадки и вздорные фантазии смешивались воедино и точно шатали людей из стороны в сторону.
Девяткин пришел однажды в правление своего ресторана и попросился в отпуск на несколько дней - повидаться с семьей и отдохнуть немного.