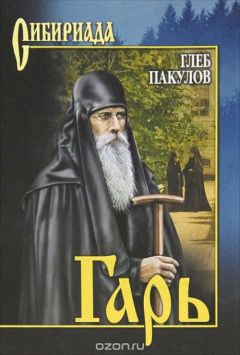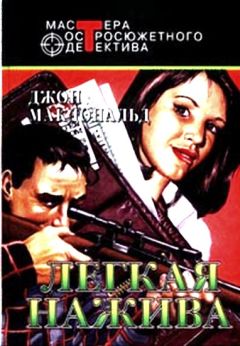Марк Харитонов - Способ существования

Обзор книги Марк Харитонов - Способ существования
Харитонов Марк
Способ существования
Марк Харитонов
Способ существования
Эссе
Эта книга в основном родилась - и продолжает рождаться до сих пор из заметок, которые я веду много лет, чаще всего на мелких листках, напоминающих фантики, конфетные обертки, на чистой стороне которых любил записывать мелькнувшую мысль или впечатление герой моего романа "Линии судьбы, или Сундучок Милашевича".
А может быть, фантики Милашевича напоминают мои листки.
В романе я немало философствую над феноменом таких заметок. Сведенные воедино, они демонстрируют неожиданное для самого пишущего единство жизни и единство мысли. Заметки, разделенные годами и месяцами, как будто продолжают друг друга: ты думаешь над близким кругом тем и проблем, обнаруживаешь все те же пристрастия - в совокупности все это, помимо намерений, обрисовывает твою личность.
Вдруг обнаруживаешь, что близкие по теме записи можно сгруппировать вокруг заголовка. Так вокруг ниточки, опущенной в насыщенный раствор, вырастает оформленный узор кристаллов. Фрагменты начинают жить, если целое оказывается единым организмом.
"Я голос ваш..."
Коллекция
Самая доступная коллекция: собрать хотя бы по календарю за каждый год жизни. Пусть это будут маленькие глянцевые карточки с рекламой страхования имущества на обороте, или рисунками из мультфильма, или курортным видом. Или крупные, в полстены, с заграничными названиями дней недели, японскими красавицами, репродукциями Боттичелли. Главная их ценность - цифирки, черные цифирки будней, красные цифирки выходных и праздников, постоянных, как Новый год, или переменных, как День конституции. Триста шестьдесят пять сочетаний в обычных годах, триста шестьдесят шесть в високосных, соединяясь с цифрами очередного года, составят шифр ушедшей жизни. Можно вглядываться в каждую цифирку, пытаясь оживить ее в памяти.
Отрывные календари, символ жизни, тающей с каждым листком, где на обороте идиотская басня Демьяна Бедного, народный юмор из журнала "Крокодил", цифры пятилетнего плана по химии, кулинарные рецепты или биография ученого Попова, который почти что изобрел радио.
Календари-ежедневники, расчерченные по часам, с пометками текущих дел. Среда 18 августа. Сходить к зубному врачу. Купить лампочки. 20.30 - свидание у кинотеатра. Наконец-то поцеловать ее. Пригласить к себе. Жениться. Родить детей.
Сделанное вычеркнуто.
Самый чудовищный ритуал - зачеркивать в календаре очередной прожитый день.
Затверделое, превращенное в бумагу, испещренное значками и пометами вещество вычеркнутого времени - можно пощупать. Материальная и, если угодно, культурная ценность, полученная в обмен на годы.
Всякая коллекция - способ переработать время в вещество.
Чужая жизнь
У Набокова кто-то ест, обжигаясь, поджаренные хухрики. Пахнет липой и карбурином. Что такое хухрики, что такое карбурин? Можем ли мы это почувствовать?
Описания фантастических, придуманных, инопланетных пейзажей, животных, запахов могут затронуть нас, лишь если ассоциируются с чем-то знакомым.
Запах сарсапариллы и гуайав (у Томаса Вулфа). Растения реальные, но слова ничего не говорят мне, человеку северному, - я запаха не ощущаю.
"Банный шум в ушах". Поймет ли этот образ человек, никогда не бывавший в нашей бане с цинковыми шайками, с гулкими отзвуками?
У Вознесенского под крылом самолета "электроплиткой плящут города". Но уже целое поколение не видело этих плиток с открытой раскаленной спиралью.
Московский немец возмущался лермонтовским переводом Гете. "Что это такое: Горные вершины спят во тьме ночной. Надо не так". - "А как?" "Надо: Auf allen Gipfeln weht Ruh - вот как правильно".
Разные народы, разные культуры, разные поколения, разные слои общества, разные профессии. Женщины и мужчины порой готовы казаться друг другу существами разной породы - до отчуждения, до гадливости.
...люди настолько разные, что, казалось, происходили не просто от разных предков, от разных пород обезьян, но от разных по составу порций первичного вещества, из которого зарождалась жизнь.
Узнавание
Вы достаете из черного пакета очередную порцию фотографий и начинаете демонстрировать гостям: фрагменты летних впечатлений, отпечатки приключений, тени воспоминаний. Вот это я в трусах и с удочкой... видите, какая рыбища... как она чуть не сорвалась... Вот это мы вытаскиваем машину из грязи, заляпанные до ушей... помнишь, Маня?.. такая была потеха... А вот какой пейзаж удивительный, и тишина, тишина... а пахнет - не могу передать как. А это мы на водных лыжах целуемся...
Нет, это не вы - у вас, конечно, другие рассказы. Это кто-то другой показывает, а мы с вами вежливо слушаем, качаем головами, передаем фотографии из рук в руки. Любопытно ли нам? Пожалуй, хотя и в меру. Мы не слыхали этой тишины, не вдыхали этого запаха; события, для кого-то влажно сверкающие, праздничные, для нас блекнут; намеки, так много говорящие участникам, заставляющие их улыбаться (как же, как же!), для нас ничего не значат. Нет, интересно, конечно: этих мест мы никогда не видели, посмотрим хоть на фотокарточки... Тем более, вот, заграничные виды... памятник... подножье замка...
Задевает нас, лишь когда мы узнаем свое: рыбацкую досаду, удовольствие путника, отогревающегося у костра, - когда мы подтверждаем, обогащая, собственное ощущение жизни.
Что могут сказать нам чужие сны? - ведь они так блекнут в рассказах. Чем нам интересны писаные истории из чужой жизни? А ведь интересны же: вся литература, включая мемуарную, историческую, детективную, есть такой рассказ. Нас интересуют приключения моряков и давно истлевших пиратов, жизнеописания воинов, наблюдения путешественников, биографии знаменитостей. Надо же, чего только не бывает на свете! У нас не случалось ничего подобного, да и случиться не может в нашем занюханном городишке. Мы с девяти до восемнадцати пребываем на службе, а потом возимся по хозяйству - но, читая, переносимся в другой мир, другую жизнь, мы отождествляем себя с людьми другого опыта, другой судьбы, других эпох и других культур, мы переживаем их приключения, их глазами смотрим на диковины и чудеса, на неведомые пейзажи и строения, вместе с ними примериваем решения и мысли, переживая множество жизней, кроме своей.
Мы понимаем себя благодаря другим, сравниваем, находим черты сходства и различия, ощущаем свою принадлежность к роду человеческому и свое место в нем. Какая-то общая суть человеческой природы рождает отклик на чужую боль и чужие слезы, на взгляд и улыбку, на чужую жизнь и чужую смерть.
Об исповеди
А зачем человек тянется рассказывать о себе? Ладно еще устно, обращаясь к определенному собеседнику (который заранее согласен слушать тебя и, может быть, откликнется, поможет); нам для практической жизни надо знать друг друга. Или в письме к известному адресату. Или членам семьи - оставляя жизнеописание в поучение детям и внукам. Нет, рассказывает, обращаясь куда-то в пространство, к собеседнику, как выразился Мандельштам, провиденциальному:
... я живу - и на земле мое... я живу - и на земле мое
Кому-нибудь любезно бытие.Кому-нибудь любезно бытие.
(Е. Баратынский) (Е. Баратынский)
Что значит эта потребность связи с другими, "сношения" с чужой душой - пусть и без отклика при жизни? Способ избавиться от одиночества, самоутвердиться? Попытка противостоять исчезновению, оставляя память о себе, о своем имен ни - хотя бы в виде надписи на крымской скале: "Здесь был я!"? Желание лучше разобраться в себе, в своей жизни (на бумаге выходит четче)? Но для этого удобней дневник.
Есть еще исповедь - в идеале своем документ самопреодоления, преображения (Августин), по крайней мере - инструмент и попытка самосовершенствования. Но истинно религиозная исповедь - частное дело верующего перед Богом. Обнародование ее ради поучения, проповеди - акт уже в некотором смысле суетный. И при всем желании быть предельно правдивым, при всем даже самобичевании (а может, именно из-за него) здесь почти неизбежна - выразимся так - стилизация.
И дело не просто в сомнительности, даже какой-то противоестественности принародного самораздевания: сказать о себе напрямую предельную правду не просто трудно, а, пожалуй, в принципе невозможно: в момент обнародования она перестает быть истинной правдой. Достоевский глубоко это почувствовал на примере Ставрогина. Истинная правда целостна; всякая исповедь выхватывает, высвечивает лишь малую частность ее; всякий наш поступок, не говоря уже о помыслах, может быть понят лишь в совокупности со множеством других. Сам Достоевский о себе не пробовал так рассказывать - и потому мы знаем о нем куда больше. Мы глубже и полноценней узнаем Толстого по его романам, чем по его "Исповеди". Жизненной цельности не охватишь анализом, тут возможен лишь образ, который бывает неисчерпаем.
Перед судом искусства каждый заранее оправдан - не в юридическом, в высшем смысле: уже тем, что он здесь принят, понят, помещен на свое место в вечности.