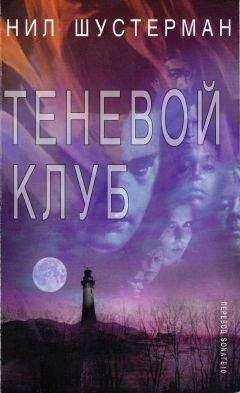Сергей Заяицкий - Забытая ночь

Обзор книги Сергей Заяицкий - Забытая ночь
Сергей Заяицкий
Забытая ночь
Я сидел под сосною на опушке леса и смотрел, как «отдыхающие» репетировали номер предстоящего вечером в «доме отдыха» кабаре.
Актеры двигались на фоне желтого поля, ровно уставленного снопами.
Среди простора слабо стучали гитарные струны.
Молодой инженер пел:
Помолился он за Клару.
Долорес щедрей была
И дала реалов пару…
И дала реалов пару…
Почтенный хирург-режиссер, стоя в стороне, всеми морщинами лица переживал песню…
— Больше радости, — кричал он «нищему», — Пепита, не зевайте…
Но Пепита та бедна.
Не имела ни реала.
Вместо золота она
Бедняка поцеловала!
Пышная терапевтичка сняла пенсне и поцеловала нищего…
— Торговец цветами, торговец цветами, — кричал хирург, — ну, чего зеваете, ей-богу!
За букет из красных роз
Отдал он все три реала
И красавице поднес,
Что его поцеловала…
— А розы вечером будут? А то с васильками ужасно неудобно получается…
— Будут, будут розы… Но больше экспрессии… Испания… ведь Испания!..
Вдалеке над полем поднялся дымок и что-то зарычало.
— Климовские с трактором возятся… Америка, а не Испания! Ха, ха!
Хирург отер пот со лба и вдруг захлебнулся летним восторгом.
— Я помню, мы эту штуку еще в одиннадцатом году ставили на юбилее Коноедова… Нищего тогда покойный Травин изображал… Вот Испанию, собака, запустил… Глаза выпучил, пыхтит… Но подумайте!., была революция… чорт знает, какие годы… И вот опять… Донна Клара, Долорес и прелестная Пепита… Живучи мы, как черти…
— Пошли философию разводить!.. Надо, господа, еще раз репетировать… У меня мимика не удается. Зуб ноет!
— Сойдет… Но давайте еще… Я всегда рад!
Струны опять застучали:
Три красавицы небес —
Шли по улицам Мадрида…
Мне захотелось пить, и я пошел в деревню раздобыть молока…
Дорога повела меня мимо былого помещичьего гумна через заброшенный парк. Над прудом среди груды кирпичей белела одинокая, устремленная в ясное небо колонна.
В стороне на пригорке толпились кресты кладбища, а немного дальше виднелась деревня.
Я толкнулся в первую избу.
Старуха приняла меня ласково и полезла в подполье за молоком. Она одна была дома — все работали в поле.
В избе рядом с посудною полкой стояла александровских времен красного дерева этажерка с маленьким гербом на дверце. На ней лежали книжки старые с пестрыми форзисами: «Плутарх для прекрасного пола», два больших тома великой французской энциклопедии и еще какая-то исписанная записная книжка с цифрой 1919 на заглавном листе. Вот то, что я прочел в ней.
* * *«Кошмар и ужас… Морозная ночь — осень, правда, еще только — но уж с сибирских тундр ползут легионы былых привидений и от их дыхания холодно и тоскливо необычайно.
Тоска сидит съежившись у меня на груди тяжелая, как мешок с рожью — не подняться, не пошевелиться. В соседней комнате во сне ли, на яву ли бормочет тетушка моя Екатерина Петровна — бредит лучшими временами, а может быть — вслух думает, что бы такое продать завтра. При свете неугасимой лампады различаю черный лик евангелиста. Евангелист пишет огромными буквами. Встаю, надеваю отцовский халат — вата из него торчит бакенбардами — и пишу. Поглядываю на евангелиста. Холодно.
Подхожу к окну — темно. Там где-то огромная степь и по ней ползут черные змеи — поезда — ползут, останавливаются и хрипят в судорогах и звякают на весь мир ржавыми цепями. Сидит, свесив ноги — наган у пояса — путешественник и глядит в мрак, а из мрака ему подмигивает алое зарево и на кожаной куртке трепещут алые блики. Вот вся Россия. Но странно не это. Странно то, что всем этим я почему-то втайне горжусь. Знаю, что там где-то экспрессы зеркальностенные и англичанин в шоколадной с шелковыми отворотами пижаме. Даже чувствую, как пахнет сигарой. И все-таки горжусь…
Не угодно ли — красное знамя на Notre Dame, и в Пантеоне всемирный совдеп под председательством Владимира Ленина…
На подоконнике рассыпаны, будто орудия пыток в Нюренбергском музее, приборы из проволоки и из гнутого металла. Вот этим некогда сбивали сливки, этим чеканили печенья и вафли. В магазинах продавали их и расхваливали почтительные приказчики и без них нельзя было пообедать. А теперь разве подарить их мальчишкам, чтоб пугали воробьев и галок? Так же на подоконнике всероссийского „окна в Европу“ рассыпаны древние императивы, веками освященные обычаи, добродетели, пороки! Вздор. Вот старая коробка из-под конфет — на ней Козьма Крючков. Убил в конце июля 1914 года одиннадцать немцев и удостоился великой славы. А ткни он только как следует одного из немцев в начале июля или обругай поцветистей, так, пожалуй, посидел бы с пауками в карцере. Тетушка моя Екатерина Петровна стучит в стену:
— Саша, ты бы Роберта Францевича спросил, выжималку для лимонов не купит ли… Он в Париж едет, там это, небось, еще нужно.
Да, там это еще нужно. Там еще лимоны выжимают и „о, ma patrie!“ кричат. Опять чувствую, как сигарой пахнет… Пахнуть бы на весь мир махоркой так, чтоб задохлись… Ведь это в первый раз, что русский Россией гордится…
* * *— Нет, постой. Ты на вопрос мне отвечай… Ты воспитание какое получил?
— Ну, буржуазное…
— Да не „ну буржуазное“, а говори просто буржуазное. Твой отец кто был?
— Капиталист.
— Хорошо-с… Теперь — подожди, дай мне сказать… Угнетал он рабочих?
— Угнетал.
Тетушка моя Екатерина Петровна, приготовляя печенья из разной гнили, качает головой: договорились.
Старик бегает из угла в угол, лавируя между мебелью, а я бледнею.
— И все-таки, как вы, дядя Петя, ни горячитесь…
— Не могу не горячиться… Ведь это уж чорт знает что такое.
— Как вы, говорю, ни горячитесь, и как это мне ни тяжело говорить про отца, но он, конечно, был эксплоататор.
— Молчи, молчи. Не раздражай.
— Он заставлял рабочих…
— На чьи деньги ты образование получил?
— …работать по двенадцати часов…
— Да ведь иначе ты бы с голоду подох, неучем бы остался.
— В конце концов, если хотите, то воспитался я на деньги рабочих.
— Ах ты, свинья эдакая!
— Ну, если вы будете ругаться…
— Да как же не ругаться? Отец для тебя все…
— В данном случае неважно, что он мой отец…
— Вот-с, Екатерина Петровна, — оказывается, нашим детям неважно, что мы их родители.
Тут моя тетушка неудачно вступает в спор:
— Говорят, Елизавета Тихоновна в тифу проговорилась, что ее Федя не от Алексея Федоровича, а от какого-то итальянского певца. Потому-то, оказывается, у него и голос такой громкий.
Дядя сердится.
— Уж ваша Елизавета Тихоновна. Вот из-за таких-то и пошло все врозь.
— Неважно, что он мой отец, а важно, что он жил на счет рабочих.
— Ах ты, цаца! А кто им больницу построил, кто им?..
— Благотворительность — зло. Она препятствует пробуждению революционного сознания.
— Да ты не партийный ли работник?
— К сожалению, нет!
— Ах, к сожалению, — ну, тогда прости. Я еще ни с одним коммунистом за столом не сидел. У меня сына красные убили… И чай с тобой пить не стану… Ленина приглашай… Я-то ведь думаю, что черное — черно, а белое — бело… А оказывается наоборот.
— Да, именно, наоборот.
— Тьфу!
Дядя уходит.
После его ухода тетушка моя Екатерина Петровна, опасаясь, как бы я не стал и взаправду коммунистом, пытается переубедить меня, рассказывая разные дневные происшествия:
— Вот к Корочевым пришли двое какие-то, да комнату и отняли. Мы, говорят, из совета… И такие грубые — страсть! В нянюшку из ружья прицелились…
* * *Вот сейчас смотрю на портреты, что стоят на столе передо мною. На одном небритый с длинными волосами студент — мой отец, когда он ходил „в народ“.
Рядом — длинноусый с пронзительными глазами гусар. Тоже мой отец, когда после убийства Александра II разочаровался он в революции и поступил в гусары.
Третий — бородатый с руками, заткнутыми за пояс. Мой отец — толстовец.
И, наконец, четвертый висит на стене над диваном. Бритый седой с американским искривлением рта джентльмен на фоне многотрубного и многодымного завода. Таким я уж его помню. К этому периоду относятся многие в его жизни удивительные начинания: европеизация рабочих. Из Англии выписан был для образца здоровенный парень, ходивший в будничные дни в синей блузе, а в дни праздничные в пиджаке и белых штанах. Жил он в специально оборудованном коттедже, ездил на велосипеде и метал диск на лужайке. Все это при полном безделье. Из черноземной грязи слепленные мужики смотрели на него с почтительным страхом. К несчастью, скоро начал он пить водку и задирать девок. Нашли его однажды в канаве мертвым со штанами, завязанными вокруг шеи наподобие галстука.