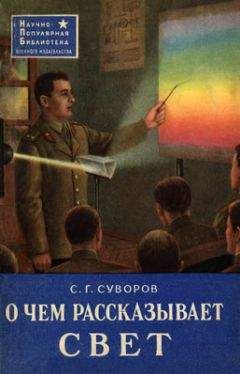Сергей Семенов - Непочетник

Обзор книги Сергей Семенов - Непочетник
Сергей Терентьевич Семенов
Непочетник
Июльское солнце только что поднялось из-за леса и ярким светом облило просыпавшуюся природу. Золотые лучи его весело заиграли разноцветными переливами на каплях росы, покрывавших густую низкую траву и темно-зеленые листья черемух и рябин, которые росли по улице деревни Хапаловой. В окнах же изб деревни эти лучи начали переливаться какими-то огненными клубками, так что при одном взгляде на них резало глаза. От света лучей даже дым, выходивший из печных труб, изменил свой сероватый цвет и стал казаться нежно-розовым.
Утро начиналось прекрасное. Это чувствовали и птички, весело щебетавшие в утреннем воздухе, и куры, с громким кудахтаньем выползавшие со дворов на улицу целыми кучами. Чувствовали это и люди, только что проснувшиеся и выходившие из изб с измятыми, заспанными лицами. Это было видно по тому, что только стоило им показаться на улицу и увидеть солнечный свет, как лица их разглаживались, сон отлетал прочь, и взгляды всех мгновенно делались добрыми и веселыми.
Но люди на улице оставались недолго, -- вскинув на плечи по косе, они пестрою толпой побрели вон из деревни, на покос. Вскоре деревня опустела; в избах остались только стряпухи да ребятишки, да на улице торчали два человека: Левоныч, сторож при волостном правлении, и один из хапаловских стариков, по причине своей дряхлости не принимавший участия в работах. Они сидели на крыльце правления и тоже любовались красотой утра, изредка перекидывались словами.
– - Утречко-то, утречко-то каково, -- говорил с легким вздохом старик, -- сердце радуется!
– - Это верно, утро славное! -- молвил Левоныч, набивая трубочку.
– - Благодать! -- сказал старик и, втянувши в себя струю свежего воздуха, замолчал.
Левоныч тоже замолчал; он закурил трубочку и стал затягиваться ею, изредка сплевывая сквозь зубы.
Прошло несколько времени. Старик и Левоныч досыта налюбовались красотой утра, и старик уже хотел подняться с места и идти к своему двору, как к крыльцу подошла еще одна душа. Это была невысокого роста пожилая баба в черном понитке и с палкой в руках. Видимо, она была из другой деревни. Низко поклонившись Левонычу с стариком, она проговорила:
– - Здорово, родимые, с добрым утром!
– - Спасибо… Откудова ты? -- спросил Левоныч.
– - Из Пятлова.
– - А куда путь держишь?
– - Да в контору. Есть тут кто из начальства-то?
– - Никого нет: старшина не приезжал еще, а писарь спит.
– - О! Что ж он так долго нежится? -- сказала баба, входя на крыльцо и усаживаясь рядом с Левонычем и стариком.
– - Что ж ему не нежиться: постель мягкая, катайся да блох корми, -- заметил Левоныч.
– - Только что, -- проговорила баба и вздохнула.
– - А тебе на что начальство-то? -- спросил ее старик.
– - Да жалобу хочу принести, повестку взять, -- сказала баба.
– - На кого ж такое?
– - На кого ж, -- и баба опять вздохнула, -- знамо, в нынешние года на соседа или еще кого вперед жаловаться не пойдешь, а скорей на своего кровного… На сынка родного подать жалобу хочу.
– - Вот как… Что ж он у тебя, пьяница, что ли?
– - Нет, этого нельзя сказать, не пьет.
– - Знать, так дурашлив?
– - И этого не скажу, парень умный, грамотей, в училищу когда ходил, похвальный лист получил, и теперь писать, читать первый из деревни; одно нехорошо: не оказывает мне никакого почтенья, -- грубит, грубит, да все тут, просто совсем от рук отбился.
– - Из ученых-то все такие выходят, -- сказал старик, -- не твой первый, не твой и последний.
– - А один он у тебя? -- спросил Левоныч.
– - Один как перст. Ведь то-то и горе-то, что одно дитя, и то незадашное вышло. Ведь вы поглядели бы, как я его растила-то, как берегла да лелеяла. Вдова ведь я, с семи лет он на моей шее остался, а я его ведь выходила, хозяйство сберегла и его вырастила, справила как следует, женила и в голове не держала, что он непочетником-то выйдет, а он вот вышел, да еще каким…
– - А ты видишь, что он незадашный, не хлопотала бы так о нем, не женила. Зачем было и тратиться на такого грубияна? -- сказал старик.
– - Да он до женитьбы-то совсем не таким был, я от него полслова худого тогда не слыхала, а как женился, так и переменился.
– - Знать, жена хороша попала? -- молвил Левоныч.
– - Хороша, расхватило бы ее приткой! Она-то всему делу и есть затейница, из-за нее весь сыр-бор-то и загорелся.
– - Как же это так? -- спросил старик.
– - А так: я говорю, он у меня холостым-то смиренник был; за все время, как я его растила-то, он так вьюном и вился вокруг меня: пойдет ли он куда, сделать ли что задумает, все-то он меня спросит, во всем посоветуется, а как женился, так это словно его чем отрезало от меня, словно черная кошка между нами пробежала. Не то что советоваться в чем, а попросту говорить и то редко стал.
– - Как же это, сразу после свадьбы началось? -- спросил Левоныч.
– - Нет, не сразу, -- молвила старуха, -- а спустя немного, только что вскоре. Женила-то я его, стало быть, на красную горку, а с покоса уж у нас неприятности пошли. Первые-то дни после свадьбы все по-хорошему шло. Парень в поле работал, молодуха около двора: то усадьбу разгребала, то дрова рубила, -- знаете, что весной по крестьянству у двора нужно делать бывает. Принялась молодуха за все хорошо; чтобы понекаться или пролукавить, -- грех сказать, -- и не пыталась. И ко мне ласкова на первых порах была. А на Николку-то, кажись это, наглядеться не могла: идет ли он с поля или из лесу идет, она так и бросается к нему навстречу, ну, и он с ней ласково обходился, так ласково, что я, кажись, сроду не видала, кто бы в крестьянстве так с женами обходился… И чем дальше, тем он умильнее на нее глядел. Пришло время к покосу, начинается самая горячая пора, а мои молодые и не чуют этого, посмеиваются меж собой да воркуют, словно голубки, а меня-то словно и не замечают, словно меня нет около них. Дальше да больше, и мне, глядя на них, индо досадно стало: что это они, думаю, никак меня-то ни во что не считают? Хороши детки! Особливо, думаю, Николка-то: пуда соли с женой не успел съесть, а уж от матери-то совсем откачнулся, прилепился к одной жене, да и ладно. Нет, думаю, это не порядки. Ты жену-то люби, да и мать-то почитай -- она тебе кормилица. И надумала я попытать, насколь вправду он к жене прилепился: дороже матери ее считает или нет? Думала-думала я, как лучше это сделать, и выдумала вот как.
В покос, сами знаете, пора какая: все встают рано, а стряпухи раньше того, -- нужно скорее коров подоить, печку топить, завтрак готовить. Вот в одно утро и порешила я Федосью поднять себе на подмогу; разбудила ее и послала коров доить да творогу к завтраку наводить. Сделала она это и потом уж на покос пошла. Подняла я ее и на другой день и на третий. На третий день к вечеру вернулся мой парень с луга сердитый такой, сели ужинать, он и говорит:
"Ты бы, матушка, погодила Федосью по утрам-то рано будить, дала бы выспаться; у нас семья небольшая, завтракать-то и одной не трудно приготовить, а ей не доспамши-то тяжело весь день на лугу ворочать".
Как услыхала я это, так меня и взорвало. Так и есть, думаю, жену больше меня жалеет, забыл все мои попечения-то, уж ни во что стал считать. Хорошо!.. Так и надо!.. И такое меня горе взяло, опостылело мне все, и сын и молодуха. Словно они вороги какие моему сердцу сделались. Послушалась я сына, не стала себе на помогу по утрам молодуху поднимать, зато не стала и заботиться об них: бывало, к завтраку-то того и этого приготовишь, а тут что попадется, то и сунешь.
И это сынку не понравилось. "Что ж ты, -- говорит, -- ехидничаешь; ты делай по порядку, а так будешь делать, хорошего мало будет".
"Я, говорю, не ехидничаю, а делаю как следует". "По-твоему, говорит, так следует, а по-нашему не так". "Мало что, говорю, по-вашему-то нехорошо, да вы мне не указ; моя воля, что хочу, то и творю".
"А коли так будет, то добра нечего ждать".
"Что будет".
С этого и пошло. Сынок мой стал на меня волком глядеть: придет ли с работы, за стол ли сядет -- все молча; с женой и то и се, а на меня точно бык косырится. Еще пуще меня зло разобрало, -- постой, думаю, если на то пошло, посмотрим, кто кого допечет скорее: ты на меня волком, а я на тебя медведем.
Пришло жнитво, нужно жать идти, а я взяла да и не пошла. "Идите, говорю, попрыгайте там одни, а я на лавке полежу, мое дело немолодое, будет с меня, поработала на свой век".
Ни слова не сказали мои молодые, пошли одни; пожали день-другой, от других не отстают и друг с дружкой веселые такие, только на меня глядят-хмурятся: я что ни заговорю, а они мне либо "да", либо "нет", -- видно, что сердятся. Еще пуще меня зло разобрало: какую, думаю, праву они имеют сердиться на мать, разве можно это, да я им на это, кажись, вот что сделаю.
Стала поджидать я такого случая, при котором придраться бы можно, отчитать их как следует. Отошло это жнитво; в одно утро Николка и говорит:
"Люди картошку роют, попробовать бы и нам сварить, -- чай, поспела".