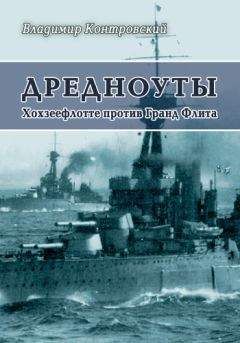Владимир Набоков - Истребление тиранов

Обзор книги Владимир Набоков - Истребление тиранов
Истребление тиранов[1]
1
Росту его власти, славы соответствовал в моем воображении рост меры наказания, которую я желал бы к нему применить. Так, сначала я удовольствовался бы его поражением на выборах, охлаждением к нему толпы, затем мне уже нужно было его заключения в тюрьму, еще позже — изгнания на далекий плоский остров с единственной пальмой, подобной черной звезде сноски, вечно низводящей в ад одиночества, позора, бессилия; теперь, наконец, только его смерть могла бы меня утолить.
Как статистики наглядно показывают его восхождение, изображая число его приверженцев в виде постепенно увеличивающейся фигурки, фигуры, фигурищи, моя ненависть к нему, так же как он скрестив руки, грозно раздувалась посреди поля моей души, покуда не заполнила ее почти всю, оставив мне лишь тонкий светящийся обод (напоминающий больше корону безумия, чем венчик мученичества); но я предвижу и полное свое затмение.
Первые его портреты, в газетах, в витринах лавок, на плакатах (тоже растущих в нашей богатой осадками, плачущей и кровоточащей стране), выходили на первых порах как бы расплывчатыми, — это было тогда, когда я еще сомневался в смертельном исходе моей ненависти: что-то еще человеческое, а именно возможность неудачи, срыва, болезни, мало ли чего, в то время слабо дрожало сквозь иные его снимки, в разнообразности неустоявшихся еще поз, в зыбкости глаз, еще не нашедших исторического выражения, но исподволь его облик уплотнился, его скулы и щеки на официальных фотоэтюдах покрылись божественным лоском, оливковым маслом народной любви, лаком законченного произведения, — и уже нельзя было представить себе, что этот нос можно высморкать, что под эту губу можно залезть пальцем, чтобы выковырнуть застречку пищи из-за гнилого резца. За пробным разнообразием последовало канонизированное единство, утвердился, теперь знакомый всем, каменно-тусклый взгляд его неумных и незлых, но чем-то нестерпимо жутких глаз, прочная мясистость отяжелевшего подбородка, бронза маслаков, и уже ставшая для всех карикатуристов мира привычной чертой, почти машинально производящей фокус сходства, толстая морщина через весь лоб, — жировое отложение мысли, а не шрам мысли, конечно. Вынужден думать, что его натирали множеством патентованных бальзамов, иначе мне непонятна металлическая добротность лица, которое я когда-то знал болезненно-одутловатым, плохо выбритым, так что слышался шорох волосков о грязный крахмальный воротничок, когда он поворачивал голову. И очки, — куда делись очки, которые он носил юношей?
2
Я никогда не только не болел политикой, но едва ли когда-либо прочел хоть одну передовую статью, хоть один отчет партийного заседания. Социологические задачки никогда не занимали меня, и я до сих пор не могу вообразить себя участвующим в каком-нибудь заговоре или даже просто сидящим в накуренной комнате и обсуждающим с политически взволнованными, напряженно серьезными людьми методы борьбы в свете последних событий. До блага человечества мне дела нет, и я не только не верю в правоту какого-либо большинства, но вообще склонен пересмотреть вопрос, должно ли стремиться к тому, чтобы решительно все были полусыты и полуграмотны. Я знаю кроме того, что моей родине, ныне им порабощенной, предстоит в дальнем будущем множество других потрясений, не зависящих от каких-либо действий сегодняшнего правителя. И все-таки: убить его.
3
Когда боги, бывало, принимали земной образ и, в лиловатых одеждах, скромно и сильно ступая мускулистыми ногами в незапыленных еще плесницах, появлялись среди полевых работников или горных пастухов, их божественность нисколько не была этим умалена; напротив — в очаровании человечности, обвевающей их, было выразительнейшее обновление их неземной сущности. Но когда ограниченный, грубый, малообразованный человек, на первый взгляд третьеразрядный фанатик, а в действительности самодур, жестокий и мрачный пошляк с болезненным гонором — когда такой человек наряжается богом, то хочется перед богами извиниться. Напрасно меня бы стали уверять, что сам он вроде как ни при чем, что его возвысило и теперь держит на железобетонном престоле неумолимое развитие темных, зоологических, зоорландских идей, которыми прельстилась моя родина. Идея подбирает только топорище, человек волен топор доделать — и применить.
Впрочем, повторяю: я плохо разбираюсь в том, что государству полезно, что вредно, и почему случается, что кровь с него сходит, как с гуся вода. Среди всех и всего меня занимает одна только личность. Это мой недуг, мое наваждение, и вместе с тем нечто как бы мне принадлежащее, мне одному отданное на суд. С ранних лет, а я уже не молод, зло в людях мне казалось особенно омерзительным, удушливо-невыносимым, требующим немедленного осмеяния и истребления, — между тем как добро в людях я едва замечал, настолько оно мне всегда представлялось состоянием нормальным, необходимым, чем-то данным и неотъемлемым, как, скажем, существование живого подразумевает способность дышать. С годами у меня развился тончайший нюх на дурное, но к добру я уже начал относиться несколько иначе, поняв, что обыкновенность его, обуславливавшая мое к нему невнимание, — обыкновенность такая необыкновенная, что вовсе не сказано, что найду его всегда под рукой, буде понадобится. Я прожил поэтому трудную, одинокую жизнь, в нужде, в меблированных комнатах, — однако, всегда у меня было рассеянное ощущение, что дом мой за углом, ждет меня, и что я войду в него, как только разделаюсь с тысячей мнимых дел, заполнявших мою жизнь. Боже мой, как я ненавидел тупость, квадратность, как бывал я несправедлив к доброму человеку, в котором подметил что-нибудь смешное, вроде скаредности или почтения к богатеньким. И вот теперь передо мной не просто слабый раствор зла, какой можно добыть из каждого человека, а зло крепчайшей силы, без примеси, громадный сосуд, полный до горла и запечатанный.
4
Из дико цветущего моего государства он сделал обширный огород, в котором особой заботой окружены репа, капуста да свекла; посему все страсти страны свелись к страсти овощной, земляной, толстой. Огород в соседстве фабрики с непременным звуковым участием где-то маневрирующего паровоза, и над всем этим безнадежное белесое небо городских окраин — и все, что сюда воображение машинально относит: забор, ржавая жестянка среди чертополоха, битое стекло, нечистоты, взрыв черного мушиного жужжания из-под ног… вот нынешний образ моей страны, — образ предельного уныния, но уныние у нас в почете, и однажды им брошенный (в свальную яму глупости) лозунг «половина нашей земли должна быть обработана, а другая заасфальтирована» повторяется дураками, как нечто, выражающее вершину человеческого счастья. Добро еще, если бы он нас питал той жалкой истиной, которую некогда вычитал у каких-то площадных софистов; он питает нас шелухой этой истины, и образ мышления, который требуется от нас, построен не просто на лжемудрости, а на обломках и обмолвках ее. Но для меня и не в этом суть, ибо разумеется, будь идея, у которой мы в рабстве, вдохновеннейшей, восхитительнейшей, освежительно мокрой и насквозь солнечной, рабство оставалось бы рабством, поскольку нам навязывали бы ее. Нет, главное то, что по мере роста его власти я стал замечать, что гражданские обязательства, наставления, стеснения, приказы и все другие виды давления, производимые на нас, становятся все более и более похожими на него самого, являя несомненное родство с определенными чертами его характера, с подробностями его прошлого, так что по ним, по этим наставлениям и приказам, можно было бы восстановить его личность, как спрута по щупальцам, ту личность его, которую я один из немногих хорошо знал. Другими словами, все кругом принимало его облик, закон начинал до смешного смахивать на его походку и жесты; в зеленных появились в необыкновенном изобилии огурцы, которыми он так жадно кормился в юности; в школах введено преподавание цыганской борьбы, которой он в редкие минуты холодной резвости занимался на полу с моим братом двадцать пять лет тому назад; в газетных статьях и в книгах подобострастных беллетристов появилась та отрывистость речи, та мнимая лапидарность (бессмысленная по существу, ибо каждая короткая и будто бы чеканная фраза повторяет на разные лады один и тот же казенный трюизм или плоское от избитости общее место), та сила слов при слабости мысли и все те прочие ужимки стиля, которые ему свойственны. Я скоро почувствовал, что он, он, таким как я его помнил, проникает всюду, заражая собой образ мышления и быт каждого человека, так что его бездарность, его скука, его серые навыки становились самой жизнью моей страны. И наконец, закон, им поставленный, — неумолимая власть большинства, ежесекундные жертвы идолу большинства, — утратил всякий социологический смысл, ибо большинство это он.