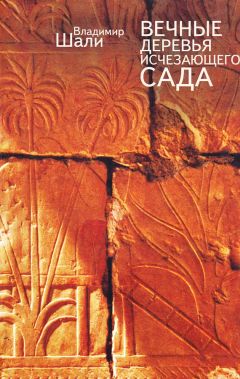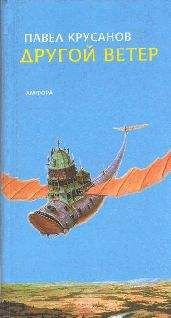Владимир Набоков - Встреча с В Сириным

Обзор книги Владимир Набоков - Встреча с В Сириным
«Старое литературное обозрение» 2001, № 1(277)
В настоящем выпуске журнала, посвященном столетию со дня рождения В.В. Набокова, представлены непереиздававшиеся и малоизвестные тексты. Это первое европейское и первое американское интервью писателя, заметки маргинальных жанров — некролог, пародия — ценные мелочи, сопровождающие главные книги: портрет И.В. Гессена переходит в «Другие берега», а тень Амалии Фондаминской ложится на образ Александры Яковлевны Чернышевской из «Дара»; пародия высвечивает смысловые закоулки известного рассказа Сирина 30-х годов.
Мы также предлагаем вниманию наших читателей впервые публикуемые на русском языке главы двухтомной набоковской биографии Брайяна Бойда и новейшие исследования, посвященные творчеству писателя.
Встреча с В. Сириным
(От парижского корреспондента «Сегодня»)
Сирин приехал в Париж устраивать свой вечер;[1] думаю, к нему пойдет публика не только потому, что любит его как писателя, но и из любопытства: как выглядит автор «Защиты Лужина»? Любопытные увидят 33-летнего юношу спортивного типа, очень гибкого, нервного, порывистого. От Петербурга остались у него учтивые манеры и изысканная, слегка грассирующая речь; Кембридж дал спортивный отпечаток; Берлин — добротность и некоторую мешковатость костюма: в Париже редко кто носит такие макинтоши на пристегивающейся подкладке.
У него — продолговатое, худое лицо, высокий, загорелый лоб, породистые черты лица. Сирин говорит быстро и с увлечением. Но какая-то целомудренность мешает ему рассказывать о самом себе. И потом — это очень трудно. Писателю легче создать вымышленную жизнь, нежели увлекательно рассказать свою собственную… В 33 года укладывается Тенишевское училище, бегство из Крыма, счастливое время Кембриджа, книги и скучная берлинская жизнь, с которой нет сил расстаться только потому, что лень трогаться с места — да и не все ли равно, где жить?
— Если отбросить писательскую работу, очень для меня мучительную и кропотливую, — рассказывает Сирин, дымя папиросой, — останется только зоология, которую я изучал в Кембридже, романские языки, большая любовь к теннису, футболу и боксу. Кажется, я не плохой голкипер…
Он говорит это с гордостью, — на мгновенье спортсмен берет верх над писателем. Но мы быстро находим прерванную нить разговора.
— …Вас обвиняют в «не-русскости», в сильном иностранном влиянии, которое сказалось на всех романах, от «Короля, дамы, валета» — до «Камеры обскура».
— Смешно! Да, обвиняли во влиянии немецких писателей, которых я не знаю. Я ведь вообще плохо читаю и говорю по-немецки. Можно говорить скорей о влиянии французском: я люблю Флобера и Пруста. Любопытно, что близость к западной культуре я почувствовал в России. Здесь же, на Западе, я ничему сознательно не научился. Зато особенно остро почувствовал обаяние Гоголя и — ближе к нам — Чехова.
— Ваш Лужин повесился;[2] Мартын Эдельвейс свихнулся и — неизвестно для чего поехал в Россию совершать свой «Подвиг»; Кречмар из «Камеры обскура» увлекался уличной женщиной. Роман целиком еще не напечатан, но конец его предвидеть не трудно. Кречмар, конечно, кончит плохо… Почему у физически и морально здорового, спортивного человека все герои такие свихнувшиеся люди?
— Свихнувшиеся люди?.. Да, может быть, вы правы. Трудно это объяснить. Кажется, что в страданиях человека есть больше значительного и интересного, чем в спокойной жизни. Человеческая натура раскрывается полней. Я думаю, все в этом. Есть что-то влекущее в страданиях. Сейчас я пишу роман «Отчаяние». Рассказ ведется от первого лица, обрусевшего немца. Это история одного преступления.
— Какова техника вашей писательской работы?
— В том, что я пишу, главную роль играет настроение, — все, что от чистого разума отступает на второй план. Замысел моего романа возникает неожиданно, рождается в одну минуту. Это — главное. Остается только проявить зафиксированную где-то в глубине пластинку. Уже все есть, все основные элементы; нужно только написать самый роман, проделать тяжелую, техническую работу. Автор в процессе работы никогда не олицетворяет себя с главным действующим лицом романа, его герой живет самостоятельной, независимой жизнью; в жизни этой все заранее предопределено, и никто уже не в силах изменить ее размеренный ход.
Важен первый толчок. Есть писатели, смотрящие на свой труд как на ремесло: каждый день должно быть написано определенное количество страниц. А я верю в какую-то внутреннюю интуицию, в вдохновение писательское; иногда я пишу запоем, по 12 часов подряд — я болен при этом и очень плохо себя чувствую. А иногда приходится бесчисленное количество раз переделывать и переписывать — есть рассказы, над которыми я работал по два месяца. И потом много времени отнимают мелочи, детали обработки: какой-нибудь пейзаж, цвет трамваев в провинциальном городке, куда попал мой герой, всякие технические подробности работы. Иногда приходится переписывать и переделывать каждое слово. Только в этой области я не ленив и терпелив. Например, чтобы написать Лужина, пришлось очень много заниматься шахматами. К слову сказать, Алехин утверждал, что я имел в виду изобразить Тартаковера.[3] Но я его совсем не знаю. Мой Лужин, — чистейший плод воображения. Так в алдановском Семене Исидоровиче Кременецком[4] во что бы то ни стало старались найти черты какого-нибудь известного петербургского адвоката, живущего сейчас в эмиграции. И, конечно, находили. Но Алданов слишком осторожный писатель, чтобы списывать свой портрет с живого лица. Его Кременецкий родился и жил в воображении одного только Алданова. Честь и слава писателю, герои которого кажутся людьми, живущими среди нас, нашей повседневной жизнью.[5]
Сирин задумался и замолчал. Разговор на литературные темы не возобновился.
Андрей Седых
Примечание:
Беседа Набокова с Андреем Седых, явившаяся первым интервью писателя, опубликована в рижской газете «Сегодня» 4 ноября 1932 года. Отрывки ее приводятся Р.Д. Тименчиком в качестве примечаний к рассказу В. Набокова «Хват» (Даугава. 1987. № 12. С. 78–79), а также Борисом Носиком в его книге «Мир и дар Владимира Набокова. Первая русская биография писателя» (М.: Пенаты, 1995. С.297)
Публикация и примечания О.Ю. Сконечной
Примечания
1
Речь идет о первом литературном вечере Набокова в Париже, организованном И.И. Фондаминским и состоявшемся 15 ноября 1932 года в Musee Sociale на улице Las-Cases. «Последние новости» констатировали: «…полный зал, общее оживление <…> Русский Париж проявил исключительное внимание к писателю, в короткое время составившему себе крупное имя» (1932. 17 ноября. С.3). После открытия Сирин читал стихи, которые к тому времени уже составляли его постоянный репертуар: «К музе», «Воздушный остров», «Окно», «Будущему читателю», «Первая любовь», «Сам треугольный, двукрылый, безногий», «Вечер на пустыре», и затем — рассказ «Музыка». Во втором отделении прозвучали «две начальные главы „Отчаяния“, тридцать четыре страницы в общей сложности» (Brian Boyd, Vladimir Nabokov. The Russian Years. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1990, p.396). Хроникер «Последних новостей» отметил: «…репутация искусного чтеца, которую имеет Сирин, оказалась оправданной. Если стихи он читает скорее как актер, чем как поэт, то в прозе обнаружил и чувство меры, и умение одной, едва заметной интонацией подчеркнуть нужное слово.»
2
Эта версия развязки «Защиты Лужина» принадлежит интервьюеру.
3
Тартаковер Савелий Григорьевич (1887–1954) — известный шахматист, поэт. Намек на «гипермодернистов» или «неоромантиков» — шахматную школу 1910–1920 гг., к которой принадлежал Тартаковер, появляется в «Защите Лужина» с введением в текст стратегии лужинского противника Турати. («Это игрок, представитель новейшего течения в шахматах…») При этом автор отмечает, что Турати «по манере игры, по склонности к фантастической дислокации был игрок ему (Лужину — О.С.) родственного склада, но только пошедший дальше». Подробно об этом: D. Barton Johnsоn, Worlds in Regression: Some Novels of Vladimir Nabokov. Ann Arbor, MI: Ardis, 1985, p. 89–90.) Тень Тартаковера, возможно, также возникает в романе при появлении Лужина, которое сопровождается бормотанием Турати: «Тар, тар, третар» (Набоков В.В. Защита Лужина / Набоков В.В. Собр. соч. в 4-х томах. Т. 2. М.: Правда, 1990. С.78). (Что возводимо и к французскому «tard, tard, tres tard» — «поздно, поздно, очень поздно», как это делает Вера Полищук. См.: Полищук В. Жизнь приема у Набокова / Владимир Набоков: Pro et Contra. Сост. Б. Аверин, М. Маликова, А. Долинин. СПб.: РХГИ, 1997. С.815). Характерно, что играл с именами и сам Тартаковер, подписав свою, как известно, ставшую объектом набоковской иронии «Антологию лунных поэтов» (1928) «С. Ревократ.» Что касается А.А. Алехина, то электрическая тема ключевой партии Лужина вторит картине игры русского шахматиста, воссозданной Е.А. Зноско-Боровским в его книге «Капабланка и Алехин», которую Набоков назвал в рецензии «мастерской». Ср. о Лужине: «Движение фигуры представлялось ему, как разряд, как удар, как молния, и все шахматное поле трепетало от напряжения, и над этим напряжением он властвовал, тут собирая, там освобождая, электрическую силу…» (Защита Лужина. С.51); и об Алехине: «…все насыщено электричеством, каждая клетка дрожит в нервном напряжении <…> Кажется, миллиарды электрических волн излучает из себя всякая фигура, которой касается Алехин. каждая клетка, в которую он метит» (Зноско-Боровский Евг. А. Капабланка и Алехин. Борьба за мировое первенство в шахматах. Париж: 1927. С.83). (Ср. версию Норы Букс, согласно которой электрическая тема Лужина восходит к другому возможному прототипу героя — В. Стейницу. Стейницу, страдавшему нервным расстройством, казалось, «что из него выходит электрический ток, который передвигает фигуры на доске». См.: Букс Н. Двое игроков за одной доской. Вл. Набоков и Я. Кавабата / Владимир Набоков: Pro et сontra. С. 531–532).