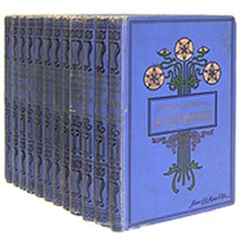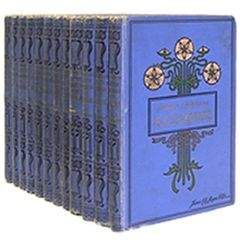Игнатий Потапенко - Не герой
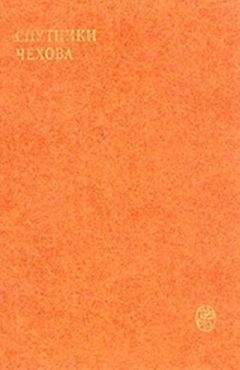
Обзор книги Игнатий Потапенко - Не герой
И. Н. Потапенко
«Не герой»
(Роман в двух частях)
Часть I
I
Бакланов спускался по чугунной лестнице с третьего этажа, где помещалась его квартира. Он был как всегда: недурно, но нельзя сказать, чтобы хорошо настроен, красив, одет не то чтобы изящно, а скорее симпатично. Все на нем сидело вольно и даже чуть-чуть мешковато и уж во всяком случае не по моде: пальто длинное, хотя франты Невского давно уже щеголяли в коротких, брюки широкие и полосатые, а между тем последним словом были — в клетку и узкие, шляпа мягкая, светлая, что ни в каком случае не подходило к темно-серому пальто; но все это шло к его красивому лицу с круглой русой бородкой, с румяными щеками, с серыми добрейшими глазами, которые дружелюбно смотрели на весь мир и ежеминутно говорили: «Ничего, ничего; конечно, не все на свете прекрасно; есть много несовершенств, несправедливостей, обид; но тем не менее — ничего, — мне все-таки недурно живется, и я люблю божий свет!» Когда он дошел до последней ступеньки, почтенный седобородый швейцар, несмотря на свой большой рост и свою тяжеловесность, засуетился, быстро выдвинул ящик ясеневого столика, вынул оттуда пакетец и подал Бакланову.
— Это вам-с, Николай Алексеич! Сию минуту принесли, не успел представить.
Бакланов взял пакет, красиво поднял веки и брови, как бы спрашивая: «Мне? От кого бы?» — и начал не спеша распечатывать пакет, в то же время продолжая свой путь уже по панели Фурштадтской улицы. Решительно не мог он себе представить, от кого и по какому поводу могла бы прийти ему телеграмма. Человек он неделовой, в провинции у него никого нет, кроме старой больной тетки, живущей где-то под Серпуховом в свой усадьбице, такой же полуразрушенной, как она сама. Кое с кем в Москве он ведет переписку, с одним профессором, с двумя журналистами, с редактором одного толстого журнала, но ни с кем из них у него не было такого дела, чтобы могла понадобиться телеграмма. Но кто бы это?
— Ах, вот кто! — промолвил он вслух, развернув телеграмму и прочитав прежде всего подпись. Там значилось: Рачеев. А телеграмма кратко извещала о прибытии завтра в одиннадцать часов на Николаевский вокзал.
«Рачеев, Рачеев! Старая дружба, сердечная дружба, школьная…» — думал Бакланов, продолжая свой путь уже по Литейному, по направлению к Невскому. Он и сам не замечал, что шаги его сделались чаще и тверже и весь он был в волнении. Рачеева он не видал уже лет семь и за все это время почти никогда не думал о нем. В последний раз он приезжал сюда из Москвы и побыл всего две недели. Он был мрачен и на все сердит. Помнил Бакланов горячую сцену в ресторане Палкина, когда они и с ними еще Ползиков истребляли напитки в отдельном кабинете. Все были разгорячены, а Рачеев больше всех, потому что он пил не для удовольствия, а с единственным желанием напиться и, как он говорил, «видеть мир перевернутым вверх ногами». Рачеев тогда страдал обычной болезнью русских порядочных людей — неведением, куда приложить свои силы таким образом, чтобы они не пропали даром. Бакланов и Ползиков вели разговор о каком-то начинающем авторе, причем Бакланов утверждал, что это несомненный талант, а Ползиков с свойственной ему мефистофельской ядовитостью говорил, что все бездарности были в свое время начинающими талантами. Вдруг Рачеев хлопнул по столу кулаком с такой силой, что бутылка подпрыгнула и повалилась набок, а красное вино из нее вылилось на светлую жилетку Ползикова.
— Черт вас побери с вашими талантами, бездарностями, со всей вашей литературой, со всеми вашими благородными бумажными идеями! Не то, не то, не то! Все это никуда не годится! — крикнул он взволнованным дрожащим голосом и с каким-то отчаяньем запустил пальцы в свои густые темные волосы.
— Оно, положим, все это гроша медного не стоит, но зачем же стулья ломать?! — пожимая плечами, заметил Ползиков, быстро отодвинул свой стул от стола и принялся с большим рвением вытирать салфеткой жилет. — Вот, жилетку мне испортил!..
— Да, это правда! — продолжал Рачеев тоном раздражения, горечи и насмешки. — Жилетки жаль, жилетка не виновата… Жилетка… Она, пожалуй, честнее всех нас вместе взятых!.. Она бессмысленна и бездушна, а у нас есть ум, способности, силы, стремления… И все это мы пропиваем, проедаем да проговариваем в дружеских беседах — ни к чему и не для кого!.. Нет, больше этого не будет! — он опять, еще с большей силой, ударил кулаком по столу. — Я или возьму быка за рога, или — пулю в лоб!
Он встряхнулся, встал и протянул руку собеседникам. Казалось, он совсем протрезвился, ноги его стояли твердо, глаза смотрели просто и здраво.
— Завтра уезжаю, прощайте! — сказал он по-дружески. — Ну вас, с вашим Петербургом…
— Куда? — спросил Бакланов.
— К себе в усадьбу. Там засяду в одиночестве, подопру голову руками и буду решать гамлетовский вопрос. А дальше что-нибудь обо мне услышите…
На другой день друзья проводили поезд, с которым уехал Рачеев. Около года Бакланов ничего не слышал о приятеле, но затем до него дошли слухи, что Рачеев почти безвыездно живет в своей усадьбе, недалеко от Москвы и по соседству с усадьбой тетки Бакланова. Слухи двоились, московские корреспонденты из школьных товарищей изображали Рачеева чуть ли не героем, посвятившим все свои силы хорошему делу, которое и они — корреспонденты — любили, но сил ему не посвящали; тетка писала (тогда она еще владела правой рукой), что Рачеев просто помешанный. Бакланов, разумеется, тетке не верил, а на отзывы корреспондентов своих смотрел как на одно из тех душу возвышающих преувеличений, которые так легко делаются добродушными людьми, потому что это ничего не стоит. Сам же Рачеев ничего не писал ему, и все это вместе взятое помогло Бакланову позабыть о приятеле. За это время он успел жениться, прочно устроиться на литературном поприще и стать уже близко к званию любимого писателя, званию, которое капризной публикой дается не так-то легко.
И вдруг телеграмма от Рачеева! Разом выплыли наружу все хорошие, даже иногда трогательные, чувства, какие он давно питал к школьному приятелю. Славный малый! Сердечный, весьма не глупый, искренний, свободно увлекающийся. Нет у него никакого особенного дарования, но разве это уже не дарование — быть хорошим человеком, который привлекает к себе общую симпатию? А главное — не привезет ли он в своей особе что-нибудь новенькое, какой-нибудь характерный тип современности, пригодный для освежения его наблюдений? Это очень важно.
Бакланов дошел до Невского и повернул по направлению к Адмиралтейству. «Куда же мне направиться?» — подумал он. Он вышел погулять перед завтраком, что делал каждый день. Погода стояла чудная. Был конец сентября, жара спала уже давно, а слякоть еще не пришла. Невский был залит солнцем, красив и оживлен. Бакланов любил пройтись два конца среди этого шума и возни, ему нравилось, когда его толкали в бок; чтоб перейти улицу, он выбирал места, где погуще толкотня экипажей. Это волновало его. Но на этот раз ему хотелось чего-то другого — какого-нибудь развлечения, чего-нибудь более сильного, интересного разговора, выдающейся встречи. «А, да вот что: заеду к Евгении Константиновне! Кстати, сообщу ей о завтрашнем событии. Рачеев, конечно, будет ей представлен, и она на него набросится, как на интересного героя. Она всюду ищет чего-нибудь новенького, что бы не походило на то, что есть в действительности. Вот он как раз и сослужит ей эту службу…»
Он взял извозчика и поехал на Николаевскую улицу. Уже ему виден был четырехэтажный дом, выкрашенный в серую краску, и он невольно устремил взор на большие окна бельэтажа, который занимала Высоцкая. Но еще не доехав до подъезда, он увидел карету, запряженную парой вороных, и узнал их. Карета выкатилась из ворот и сдержанно приближалась к подъезду. «Гм… Она уезжает. Пожалуй, не стоит заходить!» — подумал он, но так как извозчик уже остановил лошадь, то пришлось сойти, а тут уже было делом привычки — войти в подъезд и подняться в бельэтаж.
Но Бакланову не пришлось звонить. Дверь растворилась, и навстречу ему показалась стройная женщина среднего роста, в длинной модной кофточке серого цвета, зашитой стеклярусом; украшавший ее светлые золотистые волосы миниатюрный ток, тоже серый с крошечной зеленой птичкой, удивительно гармонировал с ее приветливым веселым подвижным лицом, скорее худощавым, чем полным, с ясными, как-то необыкновенно прямо смотревшими глазами.
— Николай Алексеич? — промолвила она певучим голосом, которому как будто недоставало мягкости. Глаза ее раскрылись шире, на губах, розовых, полных, появилась улыбка приветливая, но в то же время лукавая, словно заключавшая в себе какую-то скрытую мысль. От этой улыбки изменялось и выражение ее глаз, которые смотрели теперь уже не так просто и не так прямо. — Я вам рада, пойдемте! — и она сделала движение к раскрытой еще двери. — Я хотела съездить в Гостиный, но это не к спеху!..