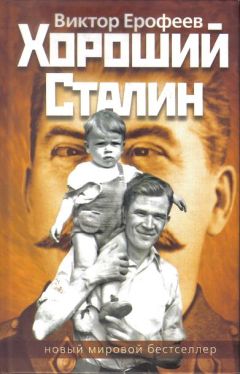Виктор Ерофеев - Настоящий писатель (О Леониде Ивановиче Добычине)

Обзор книги Виктор Ерофеев - Настоящий писатель (О Леониде Ивановиче Добычине)
Ерофеев Виктор
Настоящий писатель (О Леониде Ивановиче Добычине)
Виктор Ерофеев
Настоящий писатель (О Леониде Ивановиче Добычине)
О Леониде Ивановиче Добычине (1896-1936) известно немного, но образ, складывающийся из обрывочных сведений, создается яркий и привлекательный. Это образ настоящего писателя: требовательного к себе, последовательного и бескомпромиссного. Судя по мемуарам современников (в частности, В. Каверина), Добычин, что называется, знал себе цену и весьма критически относился к творчеству многих собратьев по перу. Его саркастического ума побаивались писатели Ленинграда, где он прожил последние годы жизни. Из литературы того времени Добычин выделял прозу Тынянова и Зощенко, хотя к последнему у него были свои "придирки". Судя по тем же воспоминаниям, он довольно скептически относился к прозе Бабеля, считая ее "парфюмерной". Эта оценка позволяет почувствовать его отношение к роли формы в произведении, вопросу, игравшему большую роль в литературных дискуссиях 20-х годов. "Орнаментализм", свойственный прозе целого ряда писателей той поры (Пильняк, Замятин и др.), по всей видимости, не удовлетворял Добычина своей внешней эффектностью, и он оказался прав, поскольку в исторической перспективе именно это качество прозы 20-х годов, после яркой вспышки интереса к нему, стало быстро устаревать как стилистический прием: на нем лежит печать времени, не позволяющая произведениям, написанным в этой манере, существовать независимо от него. Не пошел Добычин и путем зощенковского сказа, который, как можно, однако, предположить, казался ему прямолинейным приемом, отчуждающим автора от рассказчика таким образом, что автор оказывался в высокой, "чистой" позиции, а рассказчик - в "нечистой".
Л. И. Добычин прожил весьма короткую жизнь и написал сравнительно немного: два сборника рассказов и маленький роман - вот, собственно, и все. Его писательская "скупость" нуждается в расшифровке. Наверное, она связана с профессиональной требовательностью к себе, но не исключена и дополнительная интерпретация: он был писателем одной темы и настойчиво искал ее развитие, что было далеко не так просто.
Об этой теме он заявил уже в своем литературном дебюте, который выглядел обещающе. В 1924 году, в журнале "Русский современник", издававшемся при ближайшем участии Горького и зарекомендовавшем себя высоким уровнем печатавшихся в нем материалов, Добычин опубликовал рассказ "Встречи с Лиз".
Он пишет о пореволюционном захолустье, где улицы с прогнившими домиками уже торжественно переименованы, где в клубе штрафного батальона ставится "антирелигиозная" пьеса, где романтический герой Кукин идет в библиотеку, чтобы взять "что-нибудь революционное", но значение этих преобразований, по мысли Добычина, остается внешним, не затрагивая основ сознания, которое оперирует старыми вековечными понятиями (моченые яблоки торговок, голубой таз с желтыми цветами, сравнение сетки с кадилом - все это не случайно; все это не только приметы быта, но и непоколебимые устои жизни).
Раздвоенность вообще характерна для атмосферы добычинских рассказов, где сошлись два мира со своими укладами: церквами, кадилами и революционными маршами, но не для героического противостояния - так кажется рьяным утопистам, - а для оппортунистического сожительства. Обыватель, чувствуя силу власти, рад нарядиться в новые одежды, с удовольствием разучивает новый лексикон, подражает манерам незнакомого времени.
Позиция Добычина может сойти за изображение "гримас" нэпа, примелькавшееся в литературе "попутчиков", однако в этом маскараде автор видит нечто большее. Его нарастающий конфликт со временем связан с невозмутимостью повествователя-наблюдателя, который, однако, с внутренним напряжением, завуалированным иронией, следит за процессом перерождения обывателя.
Сомнения, охватывающие писателя, как это ни странно на первый взгляд, проявляются в том значении, которое имеет в его творчестве стихия воды: она обнажает не только тела, но и души, она заманчива и опасна, она эротична и смертоносна. Стихия воды не явно, но определенно противостоит стихии огня, революционному пламени, стихии преобразования. Вода заливает весь этот огонь.
В рассказе "Ерыгин" герой похож на Кукина (вообще у Добычина "взаимозаменяемые" персонажи), только он метит выше - в писатели. Его поддерживают, поощряют, хотя содержание его "революционных" рассказов откровенно халтурно. Здесь редкий случай обнажения позиции самого автора, который не скрывает своего сарказма по отношению к литературному приспособленчеству. (В скобках замечу, что рассказы Добычина в основном названы по имени или фамилии героев: "Козлова", "Ерыгин", "Савкина", "Лидия", "Сорокина", "Лешка", "Конопатчикова" - таков почти полный состав первой книжки Добычина "Встречи с Лиз", вышедшей в 1927 году. Роль имени у писателя огромна, непонятно даже, герой ли представляет свое имя или же имя представляет героя; фамилии - "говорящие", хотя и не так откровенно, как у Гоголя, - они создают атмосферу тоски и уродства жизни; в этом плане они поистине онтологичны.)
На выход сборника "Встречи с Лиз" сочувственной рецензией откликнулся известный литературовед Н. Степанов (Звезда, 1927, № 11). Критик находит оригинальность рассказов "в их стилистической манере", видит в них "обрывки хроники, где случайные и, казалось, ненужные подробности (убедительные своей бытовой "фотографичностью") дают почти бессюжетные "картины" провинциальной жизни". В качестве стилистической особенности Добычина он выделяет: почти "беспредметность", недоговоренность, отсутствие каких-либо переходов от одного момента повествования к другому, иллюзию объективности "случайных записей" - и отмечает, что "события, люди и вещи у него уравнены". У Н. Степанова достаточно точные наблюдения, но он несколько суженно толкует его прозу в плане "бытоописания". Для Добычина быт, конечно же, лишь отправная точка философского осмысления жизни, в которой много, по его понятиям, чистого абсурда.
Новый прозаик оказался непростым орешком для критики. Даже Н. Степанов обманулся псевдобытописательством. Другие критики, вообще не вдаваясь в детали, увидели в прозе Добычина тяжбу с эпохой. В 1931 году, в связи с публикацией второго сборника рассказов "Портрет", О. Резник писал в "Литературной газете" (1931, № 10) в рецензии под названием "Позорная книга": "...увечные герои и утопленники наводняют книгу... Конечно же, речь идет об обывателях, мещанах, остатках и объедках мелкобуржуазного мира, но, по Добычину, мир заполнен исключительно зловонием, копотью, смрадом, составляющим печать эпохи..."
Сборник "Портрет" больше чем наполовину состоит из рассказов предыдущего сборника, однако в таких произведениях, как рассказы "Пожалуйста", "Сад" и особенно "Портрет", чувствуется действительно что-то новое по сравнению с прошлой книгой.
"Сад" заполнен неологизмами эпохи - они как бы сами по себе и составляют содержание рассказа: делегатки, профуполномоченный, окрэспеэс, работпрос, медсантруд, пенсионерка, отсекр, окрэмбеит, конартдив, ассенобоз, волейбольщик и, наконец, культотдельша, которая требует от купальщиков, плещущихся в темноте (и снова стихия воды!), - "чтобы все были в трусах". И посреди этого словосада стоит поэтесса Липец, чьи стихи напечатаны в сегодняшней газете:
гудками встречен день. Трудящиеся...
"Портрет", в сущности, уже не рассказ, а эскиз, подготовка к роману. Впервые от объективного повествования Добычин переходит к повествованию от "я" героя, причем в "Портрете" это девичье "я", подростковый взгляд, неизбежно остраненный и свойственный будущему роману.
"- Вы чуждая, - сказала Прохорова, - элементка, но вы мне нравитесь. Я рада, - благодарила я". Нетрудно понять злобу О. Резника: у Добычина в 1931 году право на голос получил "чуждый элемент", да еще милый, да еще по-девичьи влюбленный, не кто-нибудь, а дочь врача.
Эпоха отменила все чудеса, чтобы самой стать чудом. Даже магия обязана быть научной. Как не вспомнить М. Булгакова, читая в "Портрете": "Али-Вали отрезал себе голову. Он положил ее на блюдо и, звеня браслетами, пронес ее между рядами, улыбающуюся.
- Не чудо, а наука, - пояснил он. - Чудес нет".
Экзистенциальный конфликт Добычина с миром О. Резник вульгарно просто свел к идеологическому конфликту с эпохой. Он считал что "зловоние, копоть и смрад" составляют у писателя именно "печать эпохи". Как бы то ни было, Добычин шел против течения. Он не только не скрывал своих сомнений, но, по сути дела, ставил их в центр своих философских раздумий. Он полагал, что оправдается честностью: его беспристрастный взгляд послужит эпохе, явится как бы предостережением против излишне оптимистического представления о человеческой природе. Но эпоха была охвачена энтузиазмом жизненного, общественного переустройства. На этом фоне Добычин действительно выглядел "белой вороной"; его спокойная бестенденциозность казалась пределом пессимизма и негативной тенденциозности. Стилистические нюансы не играли никакой роли. Добычин был решительно вытеснен на окраины "несвоевременной литературы" точно так же, как и обэриуты1* со своей "подозрительной" заумью.