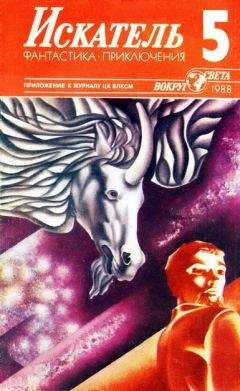Игорь Булкаты - Самтредиа

Обзор книги Игорь Булкаты - Самтредиа
Булкаты Игорь
Самтредиа
Игорь Булкаты
Самтредиа
маленькая повесть
Булкаты Игорь Михайлович родился в 1960 году в Тбилиси, окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Печатался в журналах "Литературная Грузия", "Литературная учеба", "Дружба народов". Живет в Москве. В "Новом мире" публикуется впервые.
Любительские кинокадры, снятые с высоты четырехэтажного дома, - это все, что связывает меня с ним. Нынче, спустя много лет, когда уже нет отца, а время сматывает свою бобину, я хватаю конец пленки, вставляю в лентопротяжный механизм старенького проектора и, закрепив на принимающей кассете, запускаю фильм, где все еще молоды и источают любовь. Иногда он снится мне, большой и неуклюжий, похожий на буйвола, развалившегося посреди дороги и греющегося на солнце. Глина присохла к бокам, слепни вьются над ним, от него тащит за двадцать шагов, но это его не волнует, - он спокойно и тщательно пережевывает жвачку, обмахиваясь тугим хвостом да поводя мордой с огромными блестящими глазами, окаймленными пятисантиметровыми ресницами. Я ушел из моего города детства, но, простите за банальность, сердце мое осталось там. Часто повторяю, что ненавижу его, поскольку он предал меня с отцом, но это неправда, ибо по-прежнему просыпаюсь ночами в слезах. И тогда не важно, что сосед по лестничной площадке, учитель черчения Котэ Хучуа, пожилой холостяк с крашенными хной волосами, смущающий вечерами сопливых мальчишек рассказами о своих любовных похождениях, Тэко Чуаху, как мы переиначивали его имя, заявил мне однажды, дескать, осетины - гости в Грузии и пора бы мне зарубить это на носу. Не важно, что на митингах звиадисты в длинных чухах с чужого плеча требовали, чтобы мы с отцом, седым как лунь сердечником, высказали наконец-то перед народом свое отношение к осетинам. Мне не хочется вспоминать, как толстый мент Леван Никурадзе, недавно получивший лейтенантские погоны, ворвался со товарищи в кабинет к отцу и заявил, брызжа слюной, что ежели тот станет артачиться, то они доберутся до его младшей дочери. Отец прогнал их как шавок, затем позвонил моей сестре в больницу, где та работала, и велел исчезнуть на несколько дней из города. А Гия Стуруа, отличный вратарь нашей дворовой команды "Рогатка", что плакал, если его не ставили в ворота, - рыжий Гия окликнул меня как-то на ступеньках Дома культуры: "Игора, ты не в счет, никто тебя и пальцем не тронет. Я же помню, какие ты забивал голы". Но и это не важно, не стоит переживаний. Как и реплика аккумуляторщика Резо, брошенная им во время застолья, когда произносились пламенные тосты за великую и униженную Грузию, а я молчал, ибо любое мое слово было бы истолковано превратно, - он повернулся ко мне, держа в руке полный стакан, и сказал: "Послушай, если ты не поедешь в Цхинвал и не убедишь своих осетинцев убраться с нашей земли, то ты пидарас!" Я плеснул ему в морду содержимое моего стакана. Смешно, но Резо возмутился тем, что я вылил вино, коего и так недоставало. Господи, прости нам наши грехи! Я не держу ни на кого зла, но порой не могу сладить с собой, и тогда вместе с воем хлещет горлом застоявшаяся в груди боль. Отец помер от тоски и безысходности, потому что и земля наша обетованная не приняла его как должно, и мне пришлось выносить гроб из чужой каморки, а рядом не было никого ни из друзей, ни из тех, кто до недавнего времени считался завсегдатаем нашего дома. Но мне плевать и на это, потому что ночь и вроде как под покровом темноты не видать человеческих слабостей, и я позволяю себе ненадолго вернуться в город моего детства, совсем ненадолго, ровно настолько, чтобы успеть спрыснуть растрескавшуюся, подобно старому футбольному мячу, торбу души из фонтанчика, где гипсовый мальчик заливается смехом и аист щекочет его крылом...
Мы оставили себя там, примерно на середине улицы Руставели, вдоль которой растут самые красивые в мире кленовые деревья и асфальт изрыт от частых наводнений, во время которых мы с Джигом гоним утлые плотики до самой бакалейной лавки. Джиг - это друг детства, длинноносый и голубоглазый коротышка. Мать его, Мэри, которую мы в шутку называли Мехико, раньше купала нас в одной лоханке, а потом, подхватив обоих, несла на плюшевый диван и вытирала огромным махровым полотенцем. Я знаю, чем пахнет детская дружба. Она пахнет сатином с привставшими на дыбы рыжими лошадками, из которого шьют трусы на вырост, и на речке, выскочив нагими из ледяной воды и отстукивая дробь зубами, мы не тратим времени на выяснение их принадлежности, а надеваем те, что попались под руку. Она пахнет сырым подвалом, куда нас заперли в наказание за то, что мы курили бычки на футбольном поле, а Герка Туквадзе заложил нас. Она пахнет карамельками, горсть коих мы стащили в бакалее и принесли во двор и, хвастаясь, стали угощать мальчишек, а отец, узнав об этом, велел отобрать остатки конфет и отнести обратно в бакалею, и мы так и сделали - собрали конфеты и отнесли их, а войти в лавку не решились, да так и стояли у входа, обливаясь слезами, а сопровождавшая нас детвора хохотала до упаду, и тогда выручила продавщица - бабушка Лилби - с морщинистым, как печеное яблоко, лицом, - она вышла из-за прилавка, взяла меня с Джигом за руку и повела во двор, где и заявила нашим родителям, что сама угостила нас конфетами. Она пахнет псиной, лохматой дворнягой Гуляш, заболевшей под ноябрьские праздники, и мы выхаживали ее, а восьмого утром нашли мертвой - кто-то проломил ей череп. Она пахнет деревней Ианети и горячей мамалыгой, к которой невозможно притронуться, и отец Джига, Гоги, коренастый мужичок, зачесывающий с левого виска на лысину волосы, говорит: "Берите свои тарелки - и десять кругов вокруг яблони бегом марш", - и мы бежим. Она пахнет рекой Губисцкали, где мы учились плавать, а Гоги голыми руками извлекал карасей из-под коряг, и однажды ему в трусы заполз водяной уж, и он до смерти перепугался, - то-то была потеха. И еще она пахнет хлоркой и карболкой районной санэпидемстанции, где ежеутренне мне колют в живот прививки против бешенства, потому что меня цапнула собака, а хозяин вывез ее за город и застрелил, - и Джиг сидит за дверью, обитой черным дерматином, на алюминиевом стуле и, болтая ногами, терпеливо ждет, и, когда я покидаю кабинет с невысокой кушеткой, покрытой простыней, старым деревянным письменным столом с массивной чернильницей, круглой спиральной плиткой возле медицинского шкафчика, на которой в блестящем биксе кипятят шприцы, тихо спрашивает: "Больно?" С врачом дядей Мишей мы подружились, а после курса уколов он принес нам за пазухой двух ослепительно белых голубей. Я слушал воркование птиц, что вполне умещались в его ладонях, видел огромный горбатый нос с голубыми прожилками, улыбчивые глаза с пучками морщинок по углам да густые седые усы над толстыми губами и понимал взаимозависимость пропорций человеческого лица и душевных качеств.
Нас изгнали из города. Джиг был единственным человеком, кто заступился за нас, но звиадисты быстро заткнули ему рот. Другие вообще молчали - и Юра Керенский, и Сосо Нанейшвили, и Гиви Гаганидзе. Понятное дело, у всех семьи, кому охота нарываться на неприятности, тем более когда с тобой особо не церемонятся. Вот они и помалкивали. Зато друзья отца проявили завидное рвение - они просто сдали его, втоптали в грязь.
Я не расставался с любительской кинокамерой "Кварц-2", купленной отцом по случаю в универмаге, таскал ее повсюду с собой и снимал все подряд, изводя километры пленки. Мог, например, израсходовать целую кассету на старушку Милию, кормящую с рук голубей и улыбающуюся беззубым ртом, или на толстую молодящуюся Магули, присевшую на скамейку отдохнуть и опустившую между расставленных ног увесистую авоську, а глаза печальны, и тушь потекла, и красная помада размазалась, тут подбежала дворняга Гуляш, размахивая хвостом, разлеглась в ногах и выставила пузо, и Магули чешет ей ногтями налитые молоком соски. Я снимал улицы и дома, знакомых и незнакомых людей (иногда тайно), канализационные люки, переполненные нечистотами, снимал деревья и птиц, устраивающих гомон в кронах, и многое, многое другое. А по утрам мы с Джигом поднимались на крышу нашего дома заснять рассвет, и клубящийся туман, и отражающееся в окнах напротив красное солнце. По-кошачьи пробираясь между балками по пыльному чердаку, старались не шуметь, чтобы нас не засекла живущая на последнем этаже тетя Юля, мать Тенгиза Чхеидзе, прозванного Отставкичем. Отец его, Серго Чхеидзе, служил районным военкомом. Тенгиз был старше лет на семь, а то и на восемь, что не мешало ему общаться с нами. Дородный детина с наметившимся брюшком, он носил бакенбарды. Вечерами Отставкич выкатывал из подвала свой гоночный велосипед - некогда он состоял в юношеской сборной Грузии по велоспорту и даже завоевал бронзовую медаль в заезде Кутаиси - Зугдиди - протирал его паклей и травил матерные анекдоты, приводя в восторг толпящихся вокруг окрестных мальчишек. Серго успел его комиссовать, выдал белый билет и устроил на деревообрабатывающий комбинат учеником мастера, после чего со спокойной совестью вышел в отставку выращивать виноград. А Тенгиз стал Отставкичем.