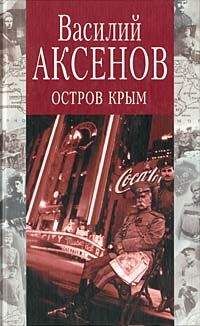Лидия Авилова - Яд

Обзор книги Лидия Авилова - Яд
Яд
— Вот, здесь приготовлено для тебя, — сказала Марья Сергеевна, маленькая полненькая блондинка средних лет, отворяя дверь просторной комнаты с бревенчатыми стенами и белым некрашеным полом. На круглом столе у постели горела лампа, по стенам и у окон стояло несколько тяжелых старинных кресел, на стене, в широкой рамке красного дерева висело большое зеркало. Ольга Владимировна засмеялась.
— Как это оригинально! — сказала она, указывая на стены, — и пахнет сосной.
Весь день, с приезда своего в Прудики, где она гостила теперь у своей подруги Марьи Сергеевны, она чувствовала себя необычайно возбужденной: она много смеялась, бегала взапуски с маленьким Вавой и вдруг, среди самой веселой и беззаботной болтовни, ее охватывало желание броситься лицом в свежую нежную травку, биться об нее головой, как билась когда-то при ней одна припадочная баба, и рыдать, хотя бы без слез, потому что слез у нее не было.
— А ты, Оленька, все та же девочка, какой была до замужества, — говорила ей Марья Сергеевна.
Теперь необычная обстановка комнаты умилила и обрадовала Ольгу Владимировну.
— Ты знаешь, — сказала она, — я не запомню, когда я была в деревне, в настоящей, как здесь. Весной, наверное, никогда.
— Ложись, — торопливо посоветовала Марья Сергеевна, — а я сейчас же вернусь к тебе, только зайду проститься с Васей и скажу, чтобы он спал. Мы еще поболтаем.
— Все еще нежности с мужем! — подумала Ольга Владимировна, провожая подругу глазами. — Если это искренно, то… странно. Сколько им? лет десять супружества. А мне — скоро шесть. — Она подошла к окну, открыла его и высунулась.
Ночь была ясная, лунная, но в воздухе было холодно и сыро. Еще немногочисленные листья серебристых тополей дрожали в лунном сиянии, как от озноба. Днем прошел дождь и на площадке перед домом стояли лужи. От тополей, от дождевой воды на песке и траве веяло свежестью и едва уловимым ароматом. За широким полукругом тополей было темно: там толпились еще полуодетые, озябшие деревья сада; они молчали и жадно ждали дня с его теплом и солнцем, от которых радостно развертывались их молодые клейкие листочки, готовясь жить и наслаждаться жизнью.
— Боже мой! — с внезапной тоской прошептала Ольга Владимировна. Она села на подоконник и подставила свое побледневшее лицо холодной ласке лунного света. Глаза ее закрылись, и ей стало казаться, что холод и покой, которые она чувствовала кругом себя, проникают в ее тревожную душу, успокаивают и убаюкивают ее.
— Это безумие, Оля! — вскрикнула Марья Сергеевна, появляясь в дверях, — ты простудишься и настудишь комнату.
Она быстро подошла и ласково обняла Ольгу за плечи, стараясь отвести ее от окна.
— Оставь меня! — тихо попросила Ольга.
— Но ты спишь… — ласкаясь, возразила Маня.
— Я не сплю… я слушаю.
— Соловьев еще нет. Погости подольше: недели через две нельзя будет спать от их свиста и трелей. Там, у себя в Петербурге этого не услышишь.
— Да, не услышишь, — рассеянно подтвердила Ольга. Маня прижалась лицом к плечу подруги, тихо зевнула и вдруг вздрогнула от холода.
— Нет, накинь что-нибудь; так нельзя! — озабоченно заметила она и отошла в глубь комнаты за теплыми платками.
— Мне за тебя отвечать перед… Борисом Николаевичем, — припомнила она имя мужа Ольги. Ольга открыла глаза и стала глядеть в сад.
— Маня! — глухо позвала Ольга Владимировна, — у тебя этого нет?.. Видишь, мне кажется, что самое большое наслаждение в жизни, это — страдание?
Марья Сергеевна удивленно глянула на подругу из-под платка.
— Ну… как же? — недоумевая протянула она. Ольга усмехнулась.
— А если не чувствуешь этого, то, все равно, не поймешь.
Какая-то птица, встрепенувшись со сна, качнула ветку тополя, листья тревожно зашептались и по песку площадки закачались тени. В то же время тихий, протяжный крик донесся откуда-то издали и затих.
— Да неужели, — тихим, словно сдавленным голосом заговорила Ольга, — неужели ты так и жила, таки живешь и ничего, кроме Васи и Вавы, не занимает тебя, не тревожит? Всю жизнь, так, без греха на душе, без… искушения? Да, Маня?
Марья Сергеевна встрепенулась и вместо ответа быстро заморгала уже немного сонными глазами.
— Да, Маня? Ни разу, ни одного увлечения? ни одного пятнышка?
— Какие же тут увлечения? — немного обиженно ответила Маня, — я не понимаю.
— Ну, так, так… — с бледной усмешкой подтвердила Ольга.
— Да что «так»-то? — уже совсем проснулась Марья Сергеевна, — можно подумать, что у тебя этих увлечений и всяких грехов…
— У меня… — упавшим голосом повторила Ольга.
Лицо Марьи Сергеевны приняло испуганное выражение; некоторое время она пристально смотрела в лицо подруги.
— Оленька! — сказала она вдруг, приподнимаясь со стула и как-то по-детски потянулась к Ольге, — Оленька! да что же это такое? Не может быть! успокой меня… Ведь не может быть?
— Что? — глухо спросила Ольга.
— Ну, это самое… Ты любишь мужа? Ты счастлива?
Ольга молчала.
— Какая мука! — сказала она вдруг и ее руки, стройные и белые, поднялись и опять беспомощно упали на колени.
— Ну, скажи мне все, все! — шепотом стала умолять Маня. — отчего мука? Что у тебя на душе?
Ольга отвернулась.
— Не все ли равно? Я погибла, — тихо сказала она.
— Да нет, нет! — чуть не крикнула Марья Сергеевна, и слезы ручьями побежали по ее щекам.
— Я погибла, — повторила Ольга. — Я знаю это теперь. Я подслушала свой позор… у этого чистого воздуха, у ночи, у тополей. И это не фразы. Пойми: мне ни разу не было стыдно, а теперь… Если это не пройдет, как же я буду жить теперь?
— Разве твой Борис знает? догадался?
— Я знаю! — чуть не крикнула Ольга, — я… Я знаю, как я низко пала, а подняться нет сил. Ты разве женщина? Ты голубь! И любовь, и все чувства твои у тебя какие-то голубиные, кроткие… Скажи, когда-нибудь ты любила?
Маня плакала.
— Но ты знаешь все, Ольга. Прежде до замужества еще… помнишь? Да Бог с ней, с любовью, если от нее одни страдания! — Ольга вдруг выпрямилась.
— Так я тебе скажу, — глубоким, вздрагивающим голосом заговорила она, — за один день таких страданий я бы отдала всю твою жизнь с ее покоем и… сонным счастьем. Да, всю жизнь! Пусть это безумие! Сойти с ума, потерять голову от страсти, муки и ненависти, да разве это уже не жизнь? не счастье? Тебе не понять, но я… чем больше я страдаю, тем глубже наслаждаюсь. Видишь ли, меня… — она приостановилась, губы ее повело горькой усмешкой и одной рукой она сделала резкий жест.
— Меня отвергли. Ну, да. Мне даже прочли… мораль. И ты думаешь, я опомнилась? Ты думаешь, я почувствовала стыд, упреки совести и все, что в этом случае полагается? Хочешь знать? Я все забыла: стыд, гордость, я чувствовала только, что от горя и ревности я схожу сума, теряю последнее самообладание. Если бы ты знала, какая это мука — любить! Мука и счастье! Но, клянусь тебе, я не знала до сих пор, что я делаю зло. Я думала, что жизнью моей овладело несчастье, что не я гублю себя и семью, что не мне перед совестью отвечать за все, что произойдет от моей погибели. Я гибла с упоением. Я пила яд и каждая капля его разливалась по мне блаженным страданием.
Ольга тихо опустила голову и задумалась.
— Ты… яд? — еле выговаривая слова от ужаса, переспросила Маня. Ольга улыбнулась.
— Не бойся, не в прямом смысле: я не думала отравляться. Я сказала, что я пила яд в виде сравнения. И этот яд разлит всюду! Маня, скажи, разве я виновата, что душа у меня такая тревожная, что в жизни я хочу жизни и всего, что она может мне дать, и сладкого и горького, все равно! И разве прежде, до моего падения, я была хуже других? Разве я думала сложить всю душу, все силы на одну нелепую, позорную страсть? Боже мой! разве и у меня не было этой благословенной жажды труда, истины и вечной любви. С моей-то выносливостью и живучестью чувства, да возьмись я за настоящее живое дело!.. Нет, какое же для меня могло быть дело? Муж, как и все мужья, давал мне полную возможность распоряжаться своим временем по своему усмотрению, но оказалось, что я часто не могла найти свободной минуты: я ездила по знакомым, принимала у себя, придумывала и примеряла новые туалеты. Чаще всего и больше всего я слушала музыку и сама занималась ей. Ах, эти звуки! сколько в них злой и неотразимой силы. Когда сидишь праздная и скучающая, с пустотой в душе и в мыслях, и вдруг хлынет этот звуковой поток… Оглянешься и не узнаешь себя и других… Звуки говорят о какой-то опьяняющей неге; горе ли, счастье ли, все полно поэзии… Слушаешь и сердце щемит от тоски по этому счастью и этим страданиям. А в действительности: мелочи, будни, болезни… Счастье и страдание! Если преступно искать их в жизни, зачем будить тоску по ним? будить мечту, которой никогда не суждено осуществиться и которая всегда, всегда переходит в стыд и боль. Маня! разве вся эта праздность, поэзия и искусственный нервный подъем, разве это не яд? И все кругом пьют и толкают тебя: «пей, пей!» А потом — или отупение до полной безжизненности, или падение и позор.