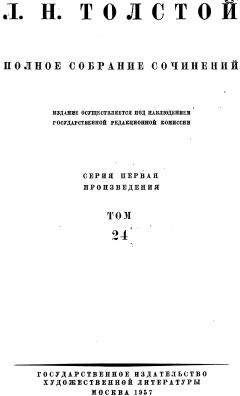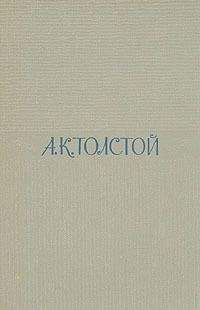Борис Хазанов - Час короля

Обзор книги Борис Хазанов - Час короля
Хазанов Борис
Час короля
Борис Хазанов
Час короля
Бенедикт САРНОВ. Предисловие
(В сокращении)
С автором этой книги Геннадием Файбусовичем (он тогда еще не был Борисом Хазановым) меня познакомил Борис Володин, работавший тогда в журнале "Химия и жизнь". Люди, делавшие этот журнал, ни в коей мере не ограничивали себя ни узкими рамками только одной науки (в данном случае - химии), ни какими-либо жанровыми границами. Кто-то из знакомых будущего Бориса Хазанова предложил ему написать для этого журнала какую-нибудь статью. Скажем, о медицине. Или о биологии. (По образованию Геннадий Моисеевич был медиком и работал тогда врачом в одной из московских больниц). Глянув на статью опытным редакторским глазом, Володин сразу понял, что имеет дело с литератором высокого профессионального класса. Это, понятно, его удивило. - А вы еще что-нибудь до этого писали? - поинтересовался он. Автор статейки, помявшись, признался, что да, действительно, писал. - А вы не могли бы мне показать всё когда-либо вами написанное? Без особого восторга, не слишком даже охотно, тот согласился. Прочитав это "все", Володин позвонил мне. Следом за ним повести и рассказы Геннадия Файбусовича (а их к тому времени было написано уже немало) прочитал и я. Прочитал и, что называется, разинул рот. Передо мной был вполне сложившийся, законченный писатель, со своим миром, своим художническим зрением. Но самым удивительным, пожалуй, тут было то, что проза эта была отмечена не только печатью несомненного художественного дарования, но и несла на себе все признаки зрелого, утонченного, я бы даже сказал, изысканного мастерства. Видно было, что автор - далеко не новичок в писательском деле. - Давно вы пишете? - задал я стереотипный вопрос, когда мы встретились. Ответ последовал неопределенный. Но я и не ждал определенного ответа. Мне было ясно: чтобы так писать, надо было начать давно. Очень давно. В самой ранней юности. И отдаваться этому занятию не урывками, а постоянно. Всю жизнь. Впоследствии выяснилось, что так оно в действительности и было. Но тогда я расспрашивать его об этом не стал. Я только спросил, давал ли он до меня и Володина кому-нибудь еще читать свои прозаические опыты. Выяснилось, что читала его повести и рассказы только жена. И ей они не нравятся. - И у вас никогда не было потребности показать их еще кому-нибудь? Он в ответ только пожал плечами. Такое отношение к своим писаниям показалось мне по меньшей мере странным. В нашей литературной среде оно выглядело не то что необычным, а прямо-таки поразительным. Еще с литинститутских времен я привык, что каждый из нас, написав "что-нибудь новенькое", тотчас спешит сообщить об этом всем окружающим и с нетерпением ждет непременного: "прочти", или: "дай почитать", чтобы поскорее получить долю причитающихся ему комплиментов. Впрочем, дело было не только в жажде аплодисментов. Больше всего на свете каждый из нас боялся вызвать подозрение в литературной импотенции. Литератор подобен курице, которая, снеся яйцо, долго кудахчет над ним, стремясь оповестить об этом важном событии всю вселенную. Я подумал тогда, что отсутствие у моего нового знакомца потребности делиться результатами своего труда с кем бы то ни было обусловлено тем, что у него - сознание дилетанта, то есть человека, для которого литературные занятия - не профессия, а - хобби. Ну и, конечно, мелькнула мысль, - не обошлось здесь и без некоторого чудачества, порожденного то ли индивидуальными особенностями характера, то ли обстоятельствами сугубо биографическими. (Я уже тогда знал, что, будучи студентом последнего курса классического отделения филфака МГУ, он был арестован и шесть лет провел в сталинских лагерях, а после лагеря, перечеркнув всю свою прошлую долагерную жизнь, поступил на медицинский факультет, окончил его, стал врачом, тем самым как бы окончательно поставив крест на "гуманитарных" увлечениях своей юности. Кто знает, может быть, втайне он даже стыдится признаться вслух, что до седых волос не может расстаться со своей "детской" страстью к литературе.) В какой-то мере эти мои предположения, вероятно, были не беспочвенны. Во всяком случае - в той своей части, которая относилась к индивидуальным особенностям характера, вернее, к тому, что принято называть экзистенцией, то есть коренными, сущностными свойствами личности. Но, как выяснилось впоследствии, было тут и другое. За этим образом поведения лежала сложившаяся, выношенная, во всех своих подробностях и деталях продуманная концепция. Эту концепцию Борис Хазанов несколько позже изложил в одном частном письме, адресованном безвестному молодому литератору. Письмо представляло собой документ в известном смысле программный. Оно даже было несколько торжественно озаглавлено "Письмом к писателю". Но, в полном соответствии с характером автора и исповедуемой им теорией, так и осталось частным письмом и, насколько мне известно, никогда нигде не публиковалось. В этом "Письме" автор развивал любимую свою мысль, которую он частенько повторял в наших с ним постоянных разговорах на литературные темы. Речь шла о так называемой "неклассической литературе" и ее связи с "неклассической физикой". Классический роман XIX века он сопоставлял с картиной мира, описанной Ньютоном, уподоблял его ньютоновской, компактной, прочно устроенной вселенной, где все происходит точно в соответствии с законами, где все будущее строго зависит от всего прошедшего. В те времена предполагалось, что существует некоторый общеобязательный объективный мир и некоторая идеальная точка зрения, с которой этот мир может быть созерцаем наиболее совершенным образом: это и есть точка зрения художника. Время в этом мире было чем-то безусловно объективным, то есть протекающим для всех с одной и той же скоростью, что доводилось до сознания читателя при помощи классической линейной последовательности изложения: все следствия происходили после причин, герои никогда не умирали прежде, чем родиться. ("Время в моем романе расчислено по календарю", - заверял читателей своего "Онегина" Пушкин.) И вот эта уютная, прочная и толково устроенная вселенная рухнула. Великой революции в физике соответствует столь же грандиозная революция в искусстве. И подобно тому, как эта первая революция связывается обычно с именем Эйнштейна, так вторая по праву должна быть связана с именем Достоевского. Именно Достоевским, утверждает Борис Хазанов, был впервые дискредитирован объективный мир, а вместе с ним и всезнающий, всевидящий, всепонимающий мироописатель. В старом романе художник был подобен творцу, единодержавному Богу: он незримо присутствовал везде, но его не было видно. Он воплощал ту идеальную точку зрения, с которой видно все: весь мир и все души. И никому не приходило в голову спросить: а откуда автор знает, о чем думала Анна Каренина за миг до смерти, ведь она ни с кем не успела поделиться этими своими мыслями? Такой вопрос не мог даже и возникнуть: на то он и автор, чтобы знать самые сокровенные мысли созданных им персонажей. И вот этот Бог исчез. И точка зрения, с которой отныне имеет дело читатель, уже, оказывается, вовсе для него не обязательна, потому что вдруг, нежданно-негаданно выяснилось, что нет на свете истины, одинаковой для всех: любая точка зрения более или менее случайна. И время, бывшее в старом классическом романе единым для всех, теперь для разных персонажей протекает по-разному. Романист XX века обращается с временем весьма свободно: он то сгущает его, то растягивает... Я не стану более подробно излагать суть этой концепции современного искусства: полагаю, что даже в этом моем довольно неуклюжем изложении основная мысль Б. Хазанова достаточно ясна. Стоит, пожалуй, только добавить, что "Письмо", в котором он излагал эти свои соображения, было подлинным гимном вот этой самой новой, неклассической прозе, в которой "мир предстает перед нами искривленным и поначалу кажется иррациональным. Но этот мир, в котором читатель чувствует себя заблудившимся, как Дант, потерявший Виргилия, пронзительно правдив". Борисом Хазановым движет уверенность, что старый, классический роман неспособен правдиво отразить действительность, в которой мы живем. Он не говорит об этом прямо, но мысль его именно такова, тут не может быть сомнений. "Можно было бы объяснить, - замечает он, - откуда возникла такая концепция. Она - порождение века, в котором человек перестал чувствовать себя хозяином не то чтобы на всей планете, - этого, слава Богу, никогда не было, - но на своем маленьком клочке земли, в своей собственной квартире. Она детище того времени, когда каждый ощущает себя обездвиженным придатком, а то и рудиментом, в чудовищно сложном и непостижимом мире, который отлично может обойтись без него; когда все мы точно висим на подножке переполненного трамвая; когда стоимость человеческой личности стремительно падает и каждый на самом себе испытывает тяжесть гнета анонимных человеческих институтов, непостижимым образом ведущих самостоятельное, не зависящее от воли людей существование, - армии, государства, тайной и явной полиции, идеологического аппарата и механизмов массовой информации. Вместе с тем это искусство представляет собой героическую и по-своему действенную попытку отстоять человечность в обезличенном и обесчеловеченном мире". Последняя фраза нуждается в некоторых разъяснениях. Героические стимулы всегда были свойственны искусству. Классической прозе XIX века не в меньшей мере, нежели той "неклассической прозе", убежденным приверженцем и апологетом которой выступает в этом отрывке Борис Хазанов. Один из самых глубоких исследователей творчества Л. Н. Толстого Б. М. Эйхенбаум посвятил этой теме специальную статью. Рассуждая о стимулах, побуждавших Льва Николаевича творить, он приводил отрывок из письма автора "Анны Карениной" А. А. Толстой, написанного в 1874 году: "Вы говорите, что мы как белка в колесе... Но этого не надо говорить и думать. Я по крайней мере, что бы я ни делал, всегда убеждаюсь, что du haut de ces pyramides 40 siecles me contemplent (с высоты этих пирамид сорок веков смотрят на меня) и что весь мир погибнет, если я остановлюсь". Приведя эту цитату, Б. Эйхенбаум так ее комментирует: "Речь здесь идет именно о стимулах: Толстой не хочет соглашаться, что мы "как белка в колесе"... В противовес формуле "как белка в колесе", он приводит слова Наполеона, сказанные в Египте... Но следом за этой формулой приводится другая, ведущая свое происхождение из философии Шопенгауэра и еще более многозначительная: "Весь мир погибнет, если я остановлюсь". Толстой, оказывается, чувствует себя центром мира, его главной движущей силой - солнцем, от деятельности которого зависит вся жизнь. Как ни фантастичен стимул - он составляет действительную основу его поведения и его работы... Это больше чем "вдохновение", - это то ощущение, которое свойственно героическим натурам... Совсем не этика руководила Толстым в его жизни и поведении: за его этикой как подлинное правило поведения и настоящий стимул к работе стояла героика". Вывод этот, при всей своей кажущейся убедительности, не представляется мне вполне справедливым. Толстой ведь прекрасно понимал, что мир не погибнет, если он прекратит свою работу. Более того: в глубине души он, вероятно, понимал даже, что деятельностью своей, сколь гигантским ни было бы воздействие ее на людей, он не в силах хоть сколько-нибудь изменить ход мировой истории, хоть на йоту отклонить развитие мировых событий от "заданного курса": вся философия истории Л. Н. Толстого может служить подтверждением несомненности этого вывода. В письме к Н. Страхову, жалуясь на очередную остановку в работе, Толстой вскользь обронил: "Все как будто готово для того, чтобы писать - исполнять свою земную обязанность, а недостает толчка веры в себя, в важность дела, недостает энергии заблуждения..." Поразительное словосочетание это - энергия заблуждения - с исчерпывающей ясностью объясняет смысл его формулы: "весь мир погибнет, если я остановлюсь". Формулу эту ни в коем случае не следует понимать буквально. Это чувство, это сознание, что весь мир остановится, если он прекратит работу над своим романом, - всего лишь энергия заблуждения, то есть самообман, без которого он не может творить. Да и в письме к А. А. Толстой, которое цитирует Б. Эйхенбаум, эта мысль просвечивает довольно ясно. Толстой ведь прямо говорит там, что ему, в сущности, нет дела до того, живем ли мы и работаем "как белка в колесе". Пусть даже это действительно так. Чтобы жить и работать, "этого не надо говорить и думать". В сущности, Толстой рассуждает как экзистенциалист: пусть моя жизнь и работа не имеют ни малейшего смысла, я все равно должен жить и работать так, как будто мир погибнет, если я остановлюсь. Но если это так, в чем же тогда разница между героическими стимулами, движущими пером Льва Толстого, и героическими стимулами, побуждающими творить писателей новой эпохи? Разница в том, что на тех писателей, от имени которых говорит в своем "Письме" Борис Хазанов, никакая энергия заблуждения уже не действует. В том мире, где им предстоит жить, источники этой энергии давно иссякли. Ни при каких обстоятельствах, никакими силами они уже не смогут заставить себя поверить, что их работа может хоть что-нибудь изменить в мире, где "все мы точно висим на подножке переполненного трамвая". Но даже ощущая себя "обездвиженным придатком в мире, который отлично может обойтись без него", он упорно, настойчиво, вопреки всем запретам и помехам, продолжает заниматься своим делом. Не потому что верит, что это нужно его ближним или "дальним", современникам или потомкам, читающей публике сезона или человечеству, а только лишь по той единственной причине, что это необходимо ему самому.