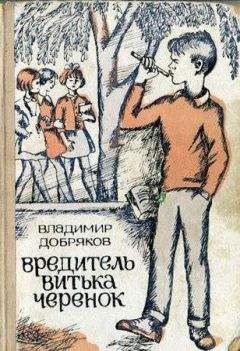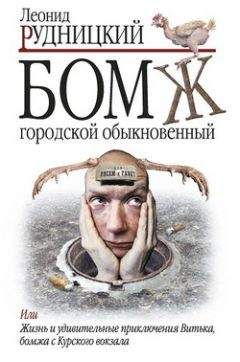Антон Чехов - Рассказ неизвестного человека - английский и русский параллельные тексты
На нашем сайте KnigaRead.com Вы можете абсолютно бесплатно читать книгу онлайн Антон Чехов, "Рассказ неизвестного человека - английский и русский параллельные тексты" бесплатно, без регистрации.

Название:
Рассказ неизвестного человека - английский и русский параллельные тексты
Автор
Жанр
Издательство:
неизвестно
ISBN:
нет данных
Год:
неизвестен
Дата добавления:
7 февраль 2019
Количество просмотров:
250
Возрастные ограничения:
Обратите внимание! Книга может включать контент, предназначенный только для лиц старше 18 лет.
Обзор книги Антон Чехов - Рассказ неизвестного человека - английский и русский параллельные тексты
Повесть великого русского писателя Антона Павловича Чехова.
Чехов Антон Павлович. Рассказ неизвестного человека
Anton Chekhov. Чехов Антон Павлович. An Anonymous Story. Рассказ неизвестного человека. Chapter I. I. Through causes which it is not the time to go into in detail, I had to enter the service of a Petersburg official called Orlov, in the capacity of a footman. По причинам, о которых не время теперь говорить подробно, я должен был поступить в лакеи к одному петербургскому чиновнику, по фамилии Орлову. He was about five and thirty, and was called Georgy Ivanitch. Было ему около тридцати пяти лет и звали его Георгием Иванычем. I entered this Orlov's service on account of his father, a prominent political man, whom I looked upon as a serious enemy of my cause. К этому Орлову поступил я ради его отца, известного государственного человека, которого считал я серьезным врагом своего дела. I reckoned that, living with the son, I should--from the conversations I should hear, and from the letters and papers I should find on the table -- learn every detail of the father's plans and intentions. Я рассчитывал, что, живя у сына, по разговорам, которые услышу, и по бумагам и запискам, какие буду находить на столе, я в подробности изучу планы и намерения отца. As a rule at eleven o'clock in the morning the electric bell rang in my footman's quarters to let me know that my master was awake. Обыкновенно часов в одиннадцать утра в моей лакейской трещал электрический звонок, давая мне знать, что проснулся барин. When I went into the bedroom with his polished shoes and brushed clothes, Georgy Ivanitch would be sitting in his bed with a face that looked, not drowsy, but rather exhausted by sleep, and he would gaze off in one direction without any sign of satisfaction at having waked. Когда я с вычищенным платьем и сапогами приходил в спальню, Георгий Иваныч сидел неподвижно в постели, не заспанный, а скорее утомленный сном, и глядел в одну точку, не выказывая по поводу своего пробуждения никакого удовольствия. I helped him to dress, and he let me do it with an air of reluctance without speaking or noticing my presence; then with his head wet with washing, smelling of fresh scent, he used to go into the dining-room to drink his coffee. Я помогал ему одеваться, а он неохотно подчинялся мне, молча и не замечая моего присутствия; потом, с мокрою от умыванья головой и пахнущий свежими духами, он шел в столовую пить кофе. He used to sit at the table, sipping his coffee and glancing through the newspapers, while the maid Polya and I stood respectfully at the door gazing at him. Он сидел за столом, пил кофе и перелистывал газеты, а я и горничная Поля почтительно стояли у двери и смотрели на него. Two grown-up persons had to stand watching with the gravest attention a third drinking coffee and munching rusks. Два взрослых человека должны были с самым серьезным вниманием смотреть, как третий пьет кофе и грызет сухарики. It was probably ludicrous and grotesque, but I saw nothing humiliating in having to stand near the door, though I was quite as well born and well educated as Orlov himself. Это, по всей вероятности, смешно и дико, но я не видел для себя ничего унизительного в том, что приходилось стоять около двери, хотя был таким же дворянином и образованным человеком, как сам Орлов. I was in the first stage of consumption, and was suffering from something else, possibly even more serious than consumption. У меня тогда начиналась чахотка, а с нею еще кое-что, пожалуй, поважнее чахотки. I don't know whether it was the effect of my illness or of an incipient change in my philosophy of life of which I was not conscious at the time, but I was, day by day, more possessed by a passionate, irritating longing for ordinary everyday life. Не знаю, под влиянием ли болезни, или начинавшейся перемены мировоззрения, которой я тогда не замечал, мною изо дня в день овладевала страстная, раздражающая жажда обыкновенной, обывательской жизни. I yearned for mental tranquillity, health, fresh air, good food. Мне хотелось душевного покоя, здоровья, хорошего воздуха, сытости. I was becoming a dreamer, and, like a dreamer, I did not know exactly what I wanted. Я становился мечтателем и, как мечтатель, не знал, что собственно мне нужно. Sometimes I felt inclined to go into a monastery, to sit there for days together by the window and gaze at the trees and the fields; sometimes I fancied I would buy fifteen acres of land and settle down as a country gentleman; sometimes I inwardly vowed to take up science and become a professor at some provincial university. То мне хотелось уйти в монастырь, сидеть там по целым дням у окошка и смотреть на деревья и поля; то я воображал, как я покупаю десятин пять земли и живу помещиком; то я давал себе слово, что займусь наукой и непременно сделаюсь профессором какого-нибудь провинциального университета. I was a retired navy lieutenant; I dreamed of the sea, of our squadron, and of the corvette in which I had made the cruise round the world. Я -- отставной лейтенант нашего флота; мне грезилось море, наша эскадра и корвет, на котором я совершил кругосветное плавание. I longed to experience again the indescribable feeling when, walking in the tropical forest or looking at the sunset in the Bay of Bengal, one is thrilled with ecstasy and at the same time homesick. Мне хотелось еще раз испытать то невыразимое чувство, когда, гуляя в тропическом лесу или глядя на закат солнца в Бенгальском заливе, замираешь от восторга и в то же время грустишь по родине. I dreamed of mountains, women, music, and, with the curiosity of a child, I looked into people's faces, listened to their voices. Мне снились горы, женщины, музыка, и с любопытством, как мальчик, я всматривался в лица, вслушивался в голоса. And when I stood at the door and watched Orlov sipping his coffee, I felt not a footman, but a man interested in everything in the world, even in Orlov. И когда я стоял у двери и смотрел, как Орлов пьет кофе, я чувствовал себя не лакеем, а человеком, которому интересно всё на свете, даже Орлов. In appearance Orlov was a typical Petersburger, with narrow shoulders, a long waist, sunken temples, eyes of an indefinite colour, and scanty, dingy-coloured hair, beard and moustaches. Наружность у Орлова была петербургская: узкие плечи, длинная талия, впалые виски, глаза неопределенного цвета и скудная, тускло окрашенная растительность на голове, бороде и усах. His face had a stale, unpleasant look, though it was studiously cared for. Лицо у него было холеное, потертое и неприятное. It was particularly unpleasant when he was asleep or lost in thought. Особенно неприятно оно было, когда он задумывался или спал. It is not worth while describing a quite ordinary appearance; besides, Petersburg is not Spain, and a man's appearance is not of much consequence even in love affairs, and is only of value to a handsome footman or coachman. Описывать обыкновенную наружность едва ли и следует; к тому же Петербург -- не Испания, наружность мужчин здесь не имеет большого значения даже в любовных делах и нужна только представительным лакеям и кучерам. I have spoken of Orlov's face and hair only because there was something in his appearance worth mentioning. When Orlov took a newspaper or book, whatever it might be, or met people, whoever they be, an ironical smile began to come into his eyes, and his whole countenance assumed an expression of light mockery in which there was no malice. Заговорил же я о лице и волосах Орлова потому только, что в его наружности было нечто, о чем стоит упомянуть, а именно: когда Орлов брался за газету или книгу, какая бы она ни была, или же встречался с людьми, кто бы они ни были, то глаза его начинали иронически улыбаться и все лицо принимало выражение легкой, не злой насмешки. Before reading or hearing anything he always had his irony in readiness, as a savage has his shield. Перед тем, как прочесть что-нибудь или услышать, у него всякий раз была уже наготове ирония, точно щит у дикаря. It was an habitual irony, like some old liquor brewed years ago, and now it came into his face probably without any participation of his will, as it were by reflex action. Это была ирония привычная, старой закваски, и в последнее время она показывалась на лице уже безо всякого участия воли, вероятно, а как бы по рефлексу. But of that later. Но об этом после. Soon after midday he took his portfolio, full of papers, and drove to his office. В первом часу он с выражением иронии брал свой портфель, набитый бумагами, и уезжал на службу. He dined away from home and returned after eight o'clock. Обедал он не дома и возвращался после восьми. I used to light the lamp and candles in his study, and he would sit down in a low chair with his legs stretched out on another chair, and, reclining in that position, would begin reading. Я зажигал в кабинете лампу и свечи, а он садился в кресло, протягивал ноги на стул и, развалившись таким образом, начинал читать. Almost every day he brought in new books with him or received parcels of them from the shops, and there were heaps of books in three languages, to say nothing of Russian, which he had read and thrown away, in the corners of my room and under my bed. Почти каждый день он привозил с собой или ему присылали из магазинов новые книги, и у меня в лакейской в углах и под моею кроватью лежало множество книг на трех языках, не считая русского, уже прочитанных и брошенных. He read with extraordinary rapidity. Читал он с необыкновенною быстротой. They say: "Tell me what you read, and I'll tell you who you are." Говорят: скажи мне, что ты читаешь, и я скажу тебе, кто ты. That may be true, but it was absolutely impossible to judge of Orlov by what he read. Это, быть может, и правда, но судить об Орлове по тем книгам, какие он читал, положительно нельзя. It was a regular hotchpotch. То была какая-то каша. Philosophy, French novels, political economy, finance, new poets, and publications of the firm Posrednik -- and he read it all with the same rapidity and with the same ironical expression in his eyes. И философия, и французские романы, и политическая экономия, и финансы, и новые поэты, и издания "Посредника", -- и всё он прочитывал одинаково быстро и всё с тем же ироническим выражением глаз. After ten o'clock he carefully dressed, often in evening dress, very rarely in his kammer-junker's uniform, and went out, returning in the morning. После десяти он тщательно одевался, часто во фрак, очень редко в свой камер-юнкерский мундир, и уезжал из дому. Возвращался под утро. Our relations were quiet and peaceful, and we never had any misunderstanding. Жили мы с ним тихо и мирно и никаких недоразумений у нас не было. As a rule he did not notice my presence, and when he talked to me there was no expression of irony on his face--he evidently did not look upon me as a human being. Обыкновенно он не замечал моего присутствия, и когда говорил со мною, то на лице у него не было иронического выражения, -- очевидно, не считал меня человеком. I only once saw him angry. Только один раз я видел его сердитым. One day--it was a week after I had entered his service--he came back from some dinner at nine o'clock; his face looked ill-humoured and exhausted. Однажды -- это было через неделю после того, как я поступил к нему, -- он вернулся с какого-то обеда часов в девять; лицо у него было капризное, утомленное. When I followed him into his study to light the candles, he said to me: Когда я шел за ним в кабинет, чтобы зажечь там свечи, он сказал мне: "There's a nasty smell in the flat." -- У нас в комнатах чем-то воняет. "No, the air is fresh," I answered. -- Нет, воздух чист, -- ответил я. "I tell you, there's a bad smell," he answered irritably. -- А я тебе говорю, что воняет, -- повторил он раздраженно. "I open the movable panes every day." -- Я каждый день отворяю форточки. "Don't argue, blockhead!" he shouted. -- Не рассуждай, болван! -- крикнул он. I was offended, and was on the point of answering, and goodness knows how it would have ended if Polya, who knew her master better than I did, had not intervened. Я обиделся и хотел возражать, и бог знает, чем бы это кончилось, если бы не вмешалась Поля, знавшая своего барина лучше, чем я. "There really is a disagreeable smell," she said, raising her eyebrows. "What can it be from? -- В самом деле, какой дурной запах! -- сказала она, поднимая брови. -- Откуда бы это? Stepan, open the pane in the drawing-room, and light the fire." Степан, отвори в гостиной форточки и затопи камин. With much bustle and many exclamations, she went through all the rooms, rustling her skirts and squeezing the sprayer with a hissing sound. Она заахала, засуетилась и пошла ходить по всем комнатам, шурша своими юбками и шипя в пульверизатор. And Orlov was still out of humour; he was obviously restraining himself not to vent his ill-temper aloud. He was sitting at the table and rapidly writing a letter. А Орлов все был не в духе; он, видимо, сдерживая себя, чтобы не сердиться громко, сидел за столом и быстро писал письмо. After writing a few lines he snorted angrily and tore it up, then he began writing again. Написавши несколько строк, он сердито фыркнул и порвал письмо, потом начал снова писать. "Damn them all!" he muttered. "They expect me to have an abnormal memory!" -- Чёрт их возьми! -- пробормотал он. -- Хотят, чтоб я имел чудовищную память! At last the letter was written; he got up from the table and said, turning to me: Наконец письмо было написано; он встал из-за стола и сказал, обращаясь ко мне: "Go to Znamensky Street and deliver this letter to Zinaida Fyodorovna Krasnovsky in person. -- Ты поедешь на Знаменскую и отдашь это письмо Зинаиде Федоровне Красновской в собственные руки. But first ask the porter whether her husband -- that is, Mr. Krasnovsky -- has returned yet. Но сначала спроси у швейцара, не вернулся ли муж, то есть господин Красновский. If he has returned, don't deliver the letter, but come back. Если он вернулся, то письма не отдавай и поезжай назад. Wait a minute! . . . Постой!.. If she asks whether I have any one here, tell her that there have been two gentlemen here since eight o'clock, writing something." В случае, если она спросит, есть ли кто-нибудь у меня, то ты скажешь ей, что с восьми часов у меня сидят два каких-то господина и что-то пишут. I drove to Znamensky Street. Я поехал на Знаменскую. The porter told me that Mr. Krasnovsky had not yet come in, and I made my way up to the third storey. Швейцар сказал мне, что господин Красновский еще не вернулись, и я отправился на третий этаж. The door was opened by a tall, stout, drab-coloured flunkey with black whiskers, who in a sleepy, churlish, and apathetic voice, such as only flunkeys use in addressing other flunkeys, asked me what I wanted. Мне отворил дверь высокий, толстый, бурый лакей с черными бакенами и сонно, вяло и грубо, как только лакей может разговаривать с лакеем, спросил меня, что мне нужно. Before I had time to answer, a lady dressed in black came hurriedly into the hall. Не успел я ответить, как в переднюю из залы быстро вошла дама в черном платье. She screwed up her eyes and looked at me. Она прищурила на меня глаза. "Is Zinaida Fyodorovna at home?" I asked. -- Зинаида Федоровна дома? -- спросил я. "That is me," said the lady. -- Это я, -- сказала дама. "A letter from Georgy Ivanitch." -- Письмо от Георгия Иваныча. She tore the letter open impatiently, and holding it in both hands, so that I saw her sparkling diamond rings, she began reading. Она нетерпеливо распечатала письмо и, держа его в обеих руках и показывая мне свои кольца с брильянтами, стала читать. I made out a pale face with soft lines, a prominent chin, and long dark lashes. Я разглядел белое лицо с мягкими линиями, выдающийся вперед подбородок, длинные, темные ресницы. From her appearance I should not have judged the lady to be more than five and twenty. На вид я мог дать этой даме не больше двадцати пяти лет. "Give him my thanks and my greetings," she said when she had finished the letter. "Is there any one with Georgy Ivanitch?" she asked softly, joyfully, and as though ashamed of her mistrust. -- Кланяйтесь и благодарите, -- сказала она, кончив читать. -- Есть кто-нибудь у Георгия Иваныча? -- спросила она мягко, радостно и как бы стыдясь своего недоверия. "Two gentlemen," I answered. "They're writing something." -- Какие-то два господина, -- ответил я. -- Что-то пишут. "Give him my greetings and thanks," she repeated, bending her head sideways, and, reading the letter as she walked, she went noiselessly out. -- Кланяйтесь и благодарите, -- повторила она и, склонив голову набок и читая на ходу письмо, бесшумно вышла. I saw few women at that time, and this lady of whom I had a passing glimpse made an impression on me. Я тогда встречал мало женщин, и эта дама, которую я видел мельком, произвела на меня впечатление. As I walked home I recalled her face and the delicate fragrance about her, and fell to dreaming. Возвращаясь домой пешком, я вспоминал ее лицо и запах тонких духов, и мечтал. By the time I got home Orlov had gone out. Когда я вернулся, Орлова уже не было дома. Chapter II. II. And so my relations with my employer were quiet and peaceful, but still the unclean and degrading element which I so dreaded on becoming a footman was conspicuous and made itself felt every day. Итак, с хозяином мы жили тихо и мирно, но все-таки то нечистое и оскорбительное, чего я так боялся, поступая в лакеи, было налицо и давало себя чувствовать каждый день. I did not get on with Polya. Я не ладил с Полей. She was a well-fed and pampered hussy who adored Orlov because he was a gentleman and despised me because I was a footman. Это была хорошо упитанная, избалованная тварь, обожавшая Орлова за то, что он барин, и презиравшая меня за то, что я лакей. Probably, from the point of view of a real flunkey or cook, she was fascinating, with her red cheeks, her turned-up nose, her coquettish glances, and the plumpness, one might almost say fatness, of her person. Вероятно, с точки зрения настоящего лакея или повара, она была обольстительна: румяные щеки, вздернутый нос, прищуренные глаза и полнота тела, переходящая уже в пухлость. She powdered her face, coloured her lips and eyebrows, laced herself in, and wore a bustle, and a bangle made of coins. Она пудрилась, красила брови и губы, затягивалась в корсет и носила турнюр и браслетку из монет. She walked with little ripping steps; as she walked she swayed, or, as they say, wriggled her shoulders and back. Походка у нее была мелкая, подпрыгивающая; когда она ходила, то вертела или, как говорится, дрыгала плечами и задом. The rustle of her skirts, the creaking of her stays, the jingle her bangle and the vulgar smell of lip salve, toilet vinegar, and scent stolen from her master, aroused me whilst I was doing the rooms with her in the morning a sensation as though I were taking part with her in some abomination. Шуршанье ее юбок, треск корсета и звон браслета и этот хамский запах губной помады, туалетного уксуса и духов, украденных у барина, возбуждали во мне, когда я по утрам убирал с нею комнаты, такое чувство, как будто я делал вместе с нею что-то мерзкое. Either because I did not steal as she did, or because I displayed no desire to become her lover, which she probably looked upon as an insult, or perhaps because she felt that I was a man of a different order, she hated me from the first day. Оттого ли, что я не воровал вместе с нею или не изъявлял никакого желания стать ее любовником, что, вероятно, оскорбляло ее, или, быть может, оттого, что она чуяла во мне чужого человека, она возненавидела меня с первого же дня. My inexperience, my appearance --so unlike a flunkey--and my illness, seemed to her pitiful and excited her disgust. Моя неумелость, не лакейская наружность и моя болезнь представлялись ей жалкими и вызывали в ней чувство гадливости. I had a bad cough at that time, and sometimes at night I prevented her from sleeping, as our rooms were only divided by a wooden partition, and every morning she said to me: Я тогда сильно кашлял и, случалось, по ночам мешал ей спать, так как ее и мою комнату отделяла одна только деревянная перегородка, и каждое утро она говорила мне: "Again you didn't let me sleep. -- Ты опять не давал мне спать. You ought to be in hospital instead of in service." В больнице тебе лежать, а не у господ жить. She so genuinely believed that I was hardly a human being, but something infinitely below her, that, like the Roman matrons who were not ashamed to bathe before their slaves, she sometimes went about in my presence in nothing but her chemise. Она так искренно верила, что я не человек, а нечто стоящее неизмеримо ниже ее, что, подобно римским матронам, которые не стыдились купаться в присутствии рабов, при мне иногда ходила в одной сорочке. Once when I was in a happy, dreamy mood, I asked her at dinner (we had soup and roast meat sent in from a restaurant every day) Однажды за обедом (мы каждый день получали из трактира суп и жаркое), когда у меня было прекрасное мечтательное настроение, я спросил: "Polya, do you believe in God?" -- Поля, вы в бога веруете? "Why, of course!" -- А то как же! "Then," I went on, "you believe there will be a day of judgment, and that we shall have to answer to God for every evil action?" -- Стало быть, вы веруете, -- продолжал я, -- что будет страшный суд и что мы дадим ответ богу за каждый свой дурной поступок? She gave me no reply, but simply made a contemptuous grimace, and, looking that time at her cold eyes and over-fed expression, I realised that for her complete and finished personality no God, no conscience, no laws existed, and that if I had had to set fire to the house, to murder or to rob, I could not have hired a better accomplice. Она ничего не ответила и только сделала презрительную гримасу, и, глядя в этот раз на ее сытые, холодные глаза, я понял, что у этой цельной, вполне законченной натуры не было ни бога, ни совести, ни законов, и что если бы мне понадобилось убить, поджечь или украсть, то за деньги я не мог бы найти лучшего сообщника. In my novel surroundings I felt very uncomfortable for the first week at Orlov's before I got used to being addressed as "thou," and being constantly obliged to tell lies (saying "My master is not at home" when he was). В необычной обстановке, да еще при моей непривычке к ты и к постоянному лганью (говорить "барина нет дома", когда он дома), мне в первую неделю жилось у Орлова не легко. In my flunkey's swallow-tail I felt as though I were in armour. В лакейском фраке я чувствовал себя, как в латах. But I grew accustomed to it in time. Но потом привык. Like a genuine footman, I waited at table, tidied the rooms, ran and drove about on errands of all sorts. Как настоящий лакей, я прислуживал, убирал комнаты, бегал и ездил, исполняя всякие поручения. When Orlov did not want to keep an appointment with Zinaida Fyodorovna, or when he forgot that he had promised to go and see her, I drove to Znamensky Street, put a letter into her hands and told a lie. Когда Орлову не хотелось ехать на свидание к Зинаиде Федоровне или когда он забывал, что обещал быть у нее, я ездил на Знаменскую, отдавал там письмо в собственные руки и лгал. And the result of it all was quite different from what I had expected when I became a footman. Every day of this new life of mine was wasted for me and my cause, as Orlov never spoke of his father, nor did his visitors, and all I could learn of the stateman's doings was, as before, what I could glean from the newspapers or from correspondence with my comrades. И в результате выходило совсем не то, что я ожидал, поступая в лакеи; всякий день этой моей новой жизни оказывался пропащим и для меня, и для моего дела, так как Орлов никогда не говорил о своем отце, его гости -- тоже, и о деятельности известного государственного человека я знал только то, что удавалось мне, как и раньше, добывать из газет и переписки с товарищами. The hundreds of notes and papers I used to find in the study and read had not the remotest connection with what I was looking for. Сотни записок и бумаг, которые я находил в кабинете и читал, не имели даже отдаленного отношения к тому, что я искал. Orlov was absolutely uninterested in his father's political work, and looked as though he had never heard of it, or as though his father had long been dead. Орлов был совершенно равнодушен к громкой деятельности своего отца и имел такой вид, как будто не слыхал о ней или как будто отец у него давно умер. Chapter III. III. Every Thursday we had visitors. По четвергам у нас бывали гости. I ordered a piece of roast beef from the restaurant and telephoned to Eliseyev's to send us caviare, cheese, oysters, and so on. Я заказывал в ресторане кусок ростбифа и говорил в телефон Елисееву, чтобы прислали нам икры, сыру, устриц и проч. I bought playing-cards. Покупал игральных карт. Polya was busy all day getting ready the tea-things and the dinner service. Поля уже с утра приготовляла чайную посуду и сервировку для ужина. To tell the truth, this spurt of activity came as a pleasant change in our idle life, and Thursdays were for us the most interesting days. Сказать по правде, эта маленькая деятельность несколько разнообразила нашу праздную жизнь, и четверги для нас были самыми интересными днями. Only three visitors used to come. Гостей приходило только трое. The most important and perhaps the most interesting was the one called Pekarsky--a tall, lean man of five and forty, with a long hooked nose, with a big black beard, and a bald patch on his head. Самым солидным и, пожалуй, самым интересным был гость по фамилии Пекарский, высокий, худощавый человек, лет сорока пяти, с длинным, горбатым носом, с большою черною бородой и с лысиной. His eyes were large and prominent, and his expression was grave and thoughtful like that of a Greek philosopher. Глаза у него были большие, навыкате, и выражение лица серьезное, вдумчивое, как у греческого философа. He was on the board of management of some railway, and also had some post in a bank; he was a consulting lawyer in some important Government institution, and had business relations with a large number of private persons as a trustee, chairman of committees, and so on. Служил он в управлении железной дороги и в банке, был юрисконсультом при каком-то важном казенном учреждении и состоял в деловых отношениях со множеством частных лиц как опекун, председатель конкурса и т. п. He was of quite a low grade in the service, and modestly spoke of himself as a lawyer, but he had a vast influence. Имел он чин совсем небольшой и скромно называл себя присяжным поверенным, но влияние у него было громадное. A note or card from him was enough to make a celebrated doctor, a director of a railway, or a great dignitary see any one without waiting; and it was said that through his protection one might obtain even a post of the Fourth Class, and get any sort of unpleasant business hushed up. Его визитной карточки или записки достаточно было, чтобы вас принял не в очередь знаменитый доктор, директор дороги или важный чиновник; говорили, что по его протекции можно было получить должность даже четвертого класса и замять какое угодно неприятное дело. He was looked upon as a very intelligent man, but his was a strange, peculiar intelligence. Считался он очень умным человеком, но это был какой-то особенный, странный ум. He was able to multiply 213 by 373 in his head instantaneously, or turn English pounds into German marks without help of pencil or paper; he understood finance and railway business thoroughly, and the machinery of Russian administration had no secrets for him; he was a most skilful pleader in civil suits, and it was not easy to get the better of him at law. Он мог в одно мгновение помножить в уме 213 на 373 или перевести стерлинги на марки без помощи карандаша и табличек, превосходно знал железнодорожное дело и финансы, и во всем, что касалось администрации, для него не существовало тайн; по гражданским делам, как говорили, это был искуснейший адвокат, и тягаться с ним было нелегко. But that exceptional intelligence could not grasp many things which are understood even by some stupid people. Но этому необыкновенному уму было совершенно непонятно многое, что знает даже иной глупый человек. For instance, he was absolutely unable to understand why people are depressed, why they weep, shoot themselves, and even kill others; why they fret about things that do not affect them personally, and why they laugh when they read Gogol or Shtchedrin . . . . Так, он решительно не мог понять, почему это люди скучают, плачут, стреляются и даже других убивают, почему они волнуются по поводу вещей и событий, которые их лично не касаются, и почему они смеются, когда читают Гоголя или Щедрина... Everything abstract, everything belonging to the domain of thought and feeling, was to him boring and incomprehensible, like music to one who has no ear. Все отвлеченное, исчезающее в области мысли и чувства, было для него непонятно и скучно, как музыка для того, кто не имеет слуха. He looked at people simply from the business point of view, and divided them into competent and incompetent. На людей смотрел он только с деловой точки зрения и делил их на способных и неспособных. No other classification existed for him. Иного деления у него не существовало. Honesty and rectitude were only signs of competence. Честность и порядочность составляют лишь признак способности. Drinking, gambling, and debauchery were permissible, but must not be allowed to interfere with business. Кутить, играть в карты и развратничать можно, но так, чтобы это не мешало делу. Believing in God was rather stupid, but religion ought be safeguarded, as the common people must have some principle to restrain them, otherwise they would not work. Веровать в бога не умно, но религия должна быть охраняема, так как для народа необходимо сдерживающее начало, иначе он не будет работать. Punishment is only necessary as deterrent. Наказания нужны только для устрашения. There was no need to go away for holidays, as it was just as nice in town. На дачу выезжать незачем, так как и в городе хорошо. And so on. И так далее. He was a widower and had no children, but lived on a large scale, as though he had a family, and paid thousand roubles a year for his flat. Он был вдов и детей не имел, но жизнь вел на широкую, семейную ногу и платил за квартиру три тысячи в год. The second visitor, Kukushkin, an actual civil councillor though a young man, was short, and was conspicuous for his extremely unpleasant appearance, which was due to the disproportion between his fat, puffy body and his lean little face. Другой гость, Кукушкин, действительный статский советник из молодых, был небольшого роста и отличался в высшей степени неприятным выражением, какое придавала ему несоразмерность его толстого, пухлого туловища с маленьким, худощавым лицом. His lips were puckered up suavely, and his little trimmed moustaches looked as though they had been fixed on with glue. Губы у него были сердечком и стриженые усики имели такой вид, как будто были приклеены лаком. He was a man with the manners of a lizard. Это был человек с манерами ящерицы. He did not walk, but, as it were, crept along with tiny steps, squirming and sniggering, and when he laughed he showed his teeth. Он не входил, а как-то вползал, мелко семеня ногами, покачиваясь и хихикая, а когда смеялся, то скалил зубы. He was a clerk on special commissions, and did nothing, though he received a good salary, especially in the summer, when special and lucrative jobs were found for him. Он был чиновником особых поручений при ком-то и ничего не делал, хотя получал большое содержание, особенно летом, когда для него изобретали разные командировки. He was a man of personal ambition, not only to the marrow of his bones, but more fundamentally--to the last drop of his blood; but even in his ambitions he was petty and did not rely on himself, but was building his career on the chance favour flung him by his superiors. Это был карьерист не до мозга костей, а глубже, до последней капли крови, и притом карьерист мелкий, неуверенный в себе, строивший свою карьеру на одних лишь подачках. For the sake of obtaining some foreign decoration, or for the sake of having his name mentioned in the newspapers as having been present at some special service in the company of other great personages, he was ready to submit to any kind of humiliation, to beg, to flatter, to promise. За какой-нибудь иностранный крестик или за то, чтобы в газетах напечатали, что он присутствовал на панихиде или на молебне вместе с прочими высокопоставленными особами, он готов был идти на какое угодно унижение, клянчить, льстить, обещать. He flattered Orlov and Pekarsky from cowardice, because he thought they were powerful; he flattered Polya and me because we were in the service of a powerful man. Из трусости он льстил Орлову и Пекарскому, потому что считал их сильными людями, льстил Поле и мне, потому что мы служили у влиятельного человека. Whenever I took off his fur coat he tittered and asked me: Всякий раз, когда я снимал с него шубу, он хихикал и спрашивал меня: "Stepan, are you married?" and then unseemly vulgarities followed--by way of showing me special attention. "Степан, ты женат?" -- и затем следовали скабрёзные пошлости -- знак особого ко мне внимания. Kukushkin flattered Orlov's weaknesses, humoured his corrupted and blase ways; to please him he affected malicious raillery and atheism, in his company criticised persons before whom in other places he would slavishly grovel. Кукушкин льстил слабостям Орлова, его испорченности, сытости; чтобы понравиться ему, он прикидывался злым насмешником и безбожником, критиковал вместе с ним тех, перед кем в другом месте рабски ханжил. When at supper they talked of love and women, he pretended to be a subtle and perverse voluptuary. Когда за ужином говорили о женщинах и о любви, он прикидывался утонченным и изысканным развратником. As a rule, one may say, Petersburg rakes are fond of talking of their abnormal tastes. Вообще, надо заметить, петербургские жуиры любят поговорить о своих необыкновенных вкусах. Some young actual civil councillor is perfectly satisfied with the embraces of his cook or of some unhappy street-walker on the Nevsky Prospect, but to listen to him you would think he was contaminated by all the vices of East and West combined, that he was an honourary member of a dozen iniquitous secret societies and was already marked by the police. Иной действительный статский советник из молодых превосходно довольствуется ласками своей кухарки или какой-нибудь несчастной, гуляющей по Невскому, но послушать его, так он заражен всеми пороками Востока и Запада, состоит почетным членом целого десятка тайных предосудительных обществ и уже на замечании у полиции. Kukushkin lied about himself in an unconscionable way, and they did not exactly disbelieve him, but paid little heed to his incredible stories. Кукушкин врал про себя бессовестно, и ему не то чтобы не верили, а как-то мимо ушей пропускали все его небылицы. The third guest was Gruzin, the son of a worthy and learned general; a man of Orlov's age, with long hair, short-sighted eyes, and gold spectacles. Третий гость -- Грузин, сын почтенного ученого генерала, ровесник Орлова, длинноволосый и подслеповатый блондин, в золотых очках. I remember his long white fingers, that looked like a pianist's; and, indeed, there was something of a musician, of a virtuoso, about his whole figure. Мне припоминаются его длинные, бледные пальцы, как у пианиста; да и во всей его фигуре было что-то музыкантское, виртуозное. The first violins in orchestras look just like that. Такие фигуры в оркестрах играют первую скрипку. He used to cough, suffered from migraine, and seemed invalidish and delicate. Он кашлял и страдал мигренью, вообще казался болезненным и слабеньким. Probably at home he was dressed and undressed like a baby. Вероятно, дома его раздевали и одевали, как ребенка. He had finished at the College of Jurisprudence, and had at first served in the Department of Justice, then he was transferred to the Senate; he left that, and through patronage had received a post in the Department of Crown Estates, and had soon afterwards given that up. Он кончил в училище правоведения и служил сначала по судебному ведомству, потом перевели его в сенат, отсюда он ушел и по протекции получил место в министерстве государственных имуществ и скоро опять ушел. In my time he was serving in Orlov's department; he was his head-clerk, but he said that he should soon exchange into the Department of Justice again. В мое время он служил в отделении Орлова, был у него столоначальником, но поговаривал, что скоро перейдет опять в судебное ведомство. He took his duties and his shifting about from one post to another with exceptional levity, and when people talked before him seriously of grades in the service, decorations, salaries, he smiled good-naturedly and repeated Prutkov's aphorism: К службе и к своим перекочевкам с места на место он относился с редким легкомыслием, и когда при нем серьезно говорили о чинах, орденах, окладах, то он добродушно улыбался и повторял афоризм Пруткова: "It's only in the Government service you learn the truth." "Только на государственной службе познаешь истину!" He had a little wife with a wrinkled face, who was very jealous of him, and five weedy-looking children. He was unfaithful to his wife, he was only fond of his children when he saw them, and on the whole was rather indifferent to his family, and made fun of them. У него была маленькая жена со сморщенным лицом, очень ревнивая, и пятеро тощеньких детей; жене он изменял, детей любил, только когда видел их, а в общем относился к семье довольно равнодушно и подшучивал над ней. He and his family existed on credit, borrowing wherever they could at every opportunity, even from his superiors in the office and porters in people's houses. Жил он с семьей в долг, занимая где и у кого попало, при всяком удобном случае, не пропуская даже своих начальников и швейцаров. His was a flabby nature; he was so lazy that he did not care what became of himself, and drifted along heedless where or why he was going. Это была натура рыхлая, ленивая до полного равнодушия к себе и плывшая по течению неизвестно куда и зачем. He went where he was taken. Куда его вели, туда и шел. If he was taken to some low haunt, he went; if wine was set before him, he drank--if it were not put before him, he abstained; if wives were abused in his presence, he abused his wife, declaring she had ruined his life--when wives were praised, he praised his and said quite sincerely: Вели его в какой-нибудь притон -- он шел, ставили перед ним вино -- пил, не ставили -- не пил; бранили при нем жен -- и он бранил свою, уверяя, что она испортила ему жизнь, а когда хвалили, то он тоже хвалил и искренно говорил: "I am very fond of her, poor thing!" "Я ее, бедную, очень люблю". He had no fur coat and always wore a rug which smelt of the nursery. Шубы у него не было и носил он всегда плед, от которого пахло детской. When at supper he rolled balls of bread and drank a great deal of red wine, absorbed in thought, strange to say, I used to feel almost certain that there was something in him of which perhaps he had a vague sense, though in the bustle and vulgarity of his daily life he had not time to understand and appreciate it. Когда за ужином, о чем-то задумавшись, он катал шарики из хлеба и пил много красного вина, то, странное дело, я бывал почти уверен, что в нем сидит что-то, что он, вероятно, сам чувствует в себе смутно, но за суетой и пошлостями не успевает понять и оценить. He played a little on the piano. Он немножко играл на рояле. Sometimes he would sit down at the piano, play a chord or two, and begin singing softly: Бывало, сядет за рояль, возьмет два-три аккорда и запоет тихо: "What does the coming day bring to me?" Что день грядущий мне готовит? But at once, as though afraid, he would get up and walk from the piano. но тотчас же, точно испугавшись, встанет и уйдет подальше от рояля. The visitors usually arrived about ten o'clock. Гости обыкновенно сходились к десяти часам. They played cards in Orlov's study, and Polya and I handed them tea. Они играли в кабинете Орлова в карты, а я и Поля подавали им чай. It was only on these occasions that I could gauge the full sweetness of a flunkey's life. Тут только я мог, как следует, постигнуть всю сладость лакейства. Standing for four or five hours at the door, watching that no one's glass should be empty, changing the ash-trays, running to the table to pick up the chalk or a card when it was dropped, and, above all, standing, waiting, being attentive without venturing to speak, to cough, to smile--is harder, I assure you, is harder than the hardest of field labour. Стоять в продолжение четырех-пяти часов около двери, следить за тем, чтобы не было пустых стаканов, переменять пепельницы, подбегать к столу, чтобы поднять оброненный мелок или карту, а главное, стоять, ждать, быть внимательным и не сметь ни говорить, ни кашлять, ни улыбаться, это, уверяю вас, тяжелее самого тяжелого крестьянского труда. I have stood on watch at sea for four hours at a stretch on stormy winter nights, and to my thinking it is an infinitely easier duty. Я когда-то стаивал на вахте по четыре часа в бурные зимние ночи и нахожу, что вахта несравненно легче. They used to play cards till two, sometimes till three o'clock at night, and then, stretching, they would go into the dining-room to supper, or, as Orlov said, for a snack of something. Играли в карты часов до двух, иногда до трех и потом, потягиваясь, шли в столовую ужинать или, как говорил Орлов, подзакусить. At supper there was conversation. За ужином разговоры. It usually began by Orlov's speaking with laughing eyes of some acquaintance, of some book he had lately been reading, of a new appointment or Government scheme. Kukushkin, always ingratiating, would fall into his tone, and what followed was to me, in my mood at that time, a revolting exhibition. Начиналось обыкновенно с того, что Орлов со смеющимися глазами заводил речь о каком-нибудь знакомом, о недавно прочитанной книге, о новом назначении или проекте; льстивый Кукушкин подхватывал в тон, и начиналась, по тогдашнему моему настроению, препротивная музыка. The irony of Orlov and his friends knew no bounds, and spared no one and nothing. Ирония Орлова и его друзей не знала пределов и не щадила никого и ничего. If they spoke of religion, it was with irony; they spoke of philosophy, of the significance and object of life--irony again, if any one began about the peasantry, it was with irony. Г оворили о религии -- ирония, говорили о философии, о смысле и целях жизни -- ирония, поднимал ли кто вопрос о народе -- ирония. There is in Petersburg a species of men whose specialty it is to jeer at every aspect of life; they cannot even pass by a starving man or a suicide without saying something vulgar. В Петербурге есть особая порода людей, которые специально занимаются тем, что вышучивают каждое явление жизни; они не могут пройти даже мимо голодного или самоубийцы без того, чтобы не сказать пошлости. But Orlov and his friends did not jeer or make jokes, they talked ironically. Но Орлов и его приятели не шутили и не вышучивали, а говорили с иронией. They used to say that there was no God, and personality was completely lost at death; the immortals only existed in the French Academy. Они говорили, что бога нет и со смертью личность исчезает совершенно; бессмертные существуют только во французской академии. Real good did not and could not possibly exist, as its existence was conditional upon human perfection, which was a logical absurdity. Истинного блага нет и не может быть, так как наличность его обусловлена человеческим совершенством, а последнее есть логическая нелепость. Russia was a country as poor and dull as Persia. Россия такая же скучная и убогая страна, как Персия. The intellectual class was hopeless; in Pekarsky's opinion the overwhelming majority in it were incompetent persons, good for nothing. Интеллигенция безнадежна; по мнению Пекарского, она в громадном большинстве состоит из людей неспособных и никуда не годных. The people were drunken, lazy, thievish, and degenerate. Народ же спился, обленился, изворовался и вырождается. We had no science, our literature was uncouth, our commerce rested on swindling--"No selling without cheating." Науки у нас нет, литература неуклюжа, торговля держится на мошенничестве: "не обманешь -- не продашь". And everything was in that style, and everything was a subject for laughter. И всё в таком роде, и всё смешно. Towards the end of supper the wine made them more good-humoured, and they passed to more lively conversation. От вина к концу ужина становились веселее и переходили к веселым разговорам. They laughed over Gruzin's family life, over Kukushkin's conquests, or at Pekarsky, who had, they said, in his account book one page headed Charity and another Physiological Necessities. Подсмеивались над семейною жизнью Грузина, над победами Кукушкина или над Пекарским, у которого будто бы в расходной книжке была одна страничка с заголовком: На дела благотворительности и другая -- На физиологические потребности. They said that no wife was faithful; that there was no wife from whom one could not, with practice, obtain caresses without leaving her drawing-room while her husband was sitting in his study close by; that girls in their teens were perverted and knew everything. Г оворили, что нет верных жен; нет такой жены, от которой, при некотором навыке, нельзя было бы добиться ласок, не выходя из гостиной, в то время, когда рядом в кабинете сидит муж. Девочки-подростки развращены и уже знают все. Orlov had preserved a letter of a schoolgirl of fourteen: on her way home from school she had "hooked an officer on the Nevsky," who had, it appears, taken her home with him, and had only let her go late in the evening; and she hastened to write about this to her school friend to share her joy with her. Орлов хранит у себя письмо одной четырнадцатилетней гимназистки: она, возвращаясь из гимназии, "замарьяжила на Невском офицерика", который будто бы увел ее к себе и отпустил только поздно вечером, а она поспешила написать об этом подруге, чтобы поделиться восторгами. They maintained that there was not and never had been such a thing as moral purity, and that evidently it was unnecessary; mankind had so far done very well without it. Говорили, что чистоты нравов не было никогда и нет ее, очевидно, она не нужна; человечество до сих пор прекрасно обходилось без нее. The harm done by so-called vice was undoubtedly exaggerated. Вред же от так называемого разврата несомненно преувеличен. Vices which are punished by our legal code had not prevented Diogenes from being a philosopher and a teacher. Caesar and Cicero were profligates and at the same time great men. Извращение, предусмотренное в нашем уставе о наказаниях, не мешало Диогену быть философом и учителем; Цезарь и Цицерон были развратники и в то же время великие люди. Cato in his old age married a young girl, and yet he was regarded as a great ascetic and a pillar of morality. Старик Катон женился на молоденькой и все-таки продолжал считаться суровым постником и блюстителем нравов. At three or four o'clock the party broke up or they went off together out of town, or to Officers' Street, to the house of a certain Varvara Ossipovna, while I retired to my quarters, and was kept awake a long while by coughing and headache. В три или четыре часа гости расходились или уезжали вместе за город или на Офицерскую