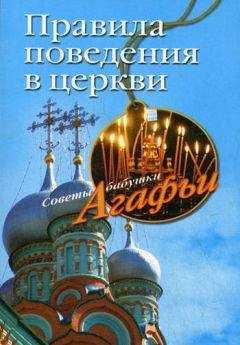Николай Иовлев - Художник - шприц

Обзор книги Николай Иовлев - Художник - шприц
Иовлев Николай
Художник - шприц
Николай Иовлев
ХУДОЖНИК ШПРИЦ
Толща зеленой воды вздрагивает от ударов сердца, в ее мути со дна бегут гирлянды пузырьков. Огромный залив, отсвечивающий безжизненно-бронзовой поверхностью, обступили вулканы. Из их глоток в грязно-бордовое небо ввинчиваются клубящиеся столбы. Над вершинами всплывает тяжелое солнце.
Вздохи, колоброженье, клокотанье.
И вот уже скользкая ящерица бежит по песку, выбрасывая язычок, виляя хвостом и целеустремленно глядя вперед. Ее пупырчатое, подернутое пенистой слизью тело разбухает, тяжелеет, превращается в гигантскую тушу, сметающую со своего пути осколки каменных глыб, приземистые деревья с чахлой листвой и толстыми корявыми стволами. Она передвигается грузно, взрывая песчаные холмы, оставляя за собой отпечатки перепончатых лап и кривую борозду от мощного хвоста, тяжело встает на задние конечности, исторгает кошмарный рык и шумно. валится на бок, предсмертно конвульсируя...
Воды посвежевшего, стряхнувшего муть залива утюжит шелестящий парусник. На лесистом склоне погасшего вулкана, в лачуге, из крыши которой в незнакомое небо нацелен телескоп, над моделью земного шара склонился седо-кудрый старец, циркулем выверяющий расстояния...
И вот уже над заливом проплывает серебряно-чешуйчатый дирижабль, вот по пустыне, мимо безмолвных мраморных изваяний, мимо каменных пирамид, конусами упирающихся в облака, перепахивая борозду, оставленную хвостом динозавра, на головокружительной скорости, грохоча, мчится мотоцикл. Взгляд его седока скрыт за черными стеклами, руки защищены высокими крагами, череп закован в пластмассу. В ней отражается златокупольная церковь, луг в цветах. На лугу - сталисто-пепельные высоковольтные вышки. Залп электрического разряда между ними - фиалково-алый, оглушающий. Вышки раскалены до бриллиантово-мерцающей голубизны.
Горы. Их каменные морщины завалены снегами, скалистые пики, ощетинившись, пронзают облака, подножия укрыты пухом лесов. Нет, это не горы, это - города. Бетонные небоскребы, равнодушно натыканные в асфальт, отблескивающие стеклом и сталью сквозь удушливое марево. Цинично глядящие друг на друга тысячеокими лицами. Заслоняющие солнце.
Удары сердца мощней, они выхлестывают новые виденья.
Часы. Колючие винтики, шестеренки. Циферблат отливает полированным металлом. Секундная стрелка прыгает в такт с ударами сердца. Циферблат оплывает и превращается в женское лицо за стеклом. В глазах - боль. Брови сломаны. Губы высушены. По стеклу сочатся слезы. Черты лица смазываются растворяясь в алом. Это - цветок мака. Нежные лепестки, покрытые прозрачным пушком, обрызганные капельками росы, окружают зубчатую сердцевину. И рядом тянет шершавую серовато-зеленую головку, похожую на змеиную, нераспустившийся бутон. И - удары сердца: тум-тум-тум... Лепестки начинают вращаться вокруг резного ядра, сливаются в алое пятно. Оно разбухает, меняясь в красках и замедляя скорость вращения. Теперь это - планета. Голубые, синие, бирюзовые разводы океанов, белоснежные завихрения облаков, грязноватые кляксы континентов. Сиреневая дымка, подкрашенная золотым-тонкой кромкой вдоль горизонта. Сейчас брызнет солнце.
Тум-тум-тум! - сердце. Бдщ-бдщ-бдщ! Это - сапоги. Черные солдатские сапоги в ребристых подошвах. Елочкой. Они поднимаются из-за горизонта вместо солнца и четко печатают шаг. Они вращают землю. Бдщ-бдщ-бдщ! Тум-тум-тум! Бдщ-бдщ-бдщ!..
Дымка, плотнея, стекается в витой жгут, уплывающий во тьму космоса. Бирюзовость Земли, извиваясь, течет к подножию этого жгута. Ослепительная огненно-ртутная вспышка, чудовищный удар, сотрясающий планету, - и налившийся кровью жгут выплескивается в клубистый шар ядерного взрыва. Из молочно-белого, надуваясь, ядро превращается в малиновое, пурпурное, багровое...
И неожиданно все становится предельно ясным: это - не атомный гриб, это - клубящиеся сгустки крови в раст воре наркотика на стенке шприца. Пробное взятие крови: пошла ли игла в вену.
Ломки... Пакостное состояние. Умирают не от кайфа - умирают от ломок. От кумара, или, по медицине, от абстиненции.
Кажется, я наглухо сел на иглу. Самый жестокий кумар - на второй день, но нужно вытерпеть денька три-четыре - и переломаешься. Я торчу на дозе четвертый месяц и, кажется, мне уже гроб с музыкой. Да, наркотик подлавливает, опровергая миф о том, что соскочить с иглы - пара пустяков, была бы сила воли. Я мучаюсь второй день и, видит Бог, уже не могу...
Все, больше мне не вытерпеть ни часа. Нужно немедленно вмазаться. Чем угодно, хоть водой из канализации - для самообмана.
Из просаленных, обахромившихся книзу джинсов достаю замотанный в носовой платок пятикубовый шприц, поблескивающий никелированными ободками, плетусь на кухню - промываю под краном. Наживляю иглу, полотенцем перетягиваю предплечье, накачиваю "трубы" кровью. Руки гуляют, игла тупая, я долго не могу попасть в истыканную, болезненную, разукрашенную синяками и желтушностями - от бесконечного насилия - вену. Кажется, есть. Беру контроль: на нижнюю стенку стеклянного цилиндра падает темно- красная струйка. И я выдавливаю поршнем коктейль из собственной крови и хлорированной водопроводной воды. Достижение - нулевое. Даже иллюзии никакой. Мой бедный организм больше не поддается надувательству. Плетусь в комнату, елозя рукой по стене. Валюсь на диван. Выворачивание наизнанку. Таких скотские ломок у меня еще не было. Пожалуй, я приплыл.
Прыгающими пальцами накручиваю телефонный циферблат. У Салата всегда полна кормушка - он не только сам любитель поторчать, но и торговец дурманом. Правда, у него людоедские цены, но где они нынче вегетарьянские.
- Володя? Тревожит некто Лебедев.
- М-м-м-м... Ну?
- Приплываю, Вова. Выручи...
В трубке - молчание, лишь раздаются легкие потрескиванья в толще эфирного фона. Наконец:
- Ты и так уже должен мешок.
- Я за свои долги отвечаю. Буду должен полтора мешка.
- Так не годится. Не огорчай меня, ты ж знаешь - у меня сердце больное.
- Володя...
- Не-е-е, Лебедь, у меня-сердце.
- Ну хочешь - "Колонновожатого"?
- Это ближе к телу. А больше никакой мазни не осталось? Хреново. Ну, тащи.
Кажется, брезжит избавление. Только бы не сорвалось... Оборачиваю собственноручное произведение эпохи личного благоденствия плотной рыжей бумагой, перевязываю бечевкой. Эта, по выражению Салата, мазня - последняя из моей домашней картинной галереи, и я не хотел с ней расставаться: она была для меня этакой энергетической подпиткой, источником, подкармливающим ощущение тупости нашей жизни. Ушлый Салат, путающий Моне и Мане, Гогена и Ван Гога, поначалу давал за нее две сотни, я же вовсе не желал торговаться, затем уже я клянчил двести, но Салат предлагал сто пятьдесят; после, играя моей безвыходностью, Салат манил сотней, но я требовал полторы - и не отступил. Сегодня эта гадина сунет мне отравы из расчета ста рублей, не больше, - и мне придется согласиться... Остальные свои изделия я растолкал черт знает когда и за последние полгода не сделал ни одного мазка. Краски сохнут, кисти томятся, холст едва ли не заплесневел. Какое к дьяволу творчество! Вечная дрожь в руках, в коленях, в пояснице. Сердцебиения, потовые накаты. И - ломки, ломки, ломки. Когда же снисходит кайф - замаивает лень. Непреодолимая. А бывало, я с упоением мазал и под кайфом, тепло поминая беспримерного Олдоса Хаксли, творившего под хорошим дозняком мескалина и утверждавшего, что это средство повышает остроту восприятия реальности, - и похохатывая от того, какие-де мы с мэтром хитрецы.
Взгляд в зеркало. Браво, загарпуненный. Зрачки еще тусклее, щеки впалее. Но вроде не очень уж страшен: спасает фотогеничность. Небритость вот только...
Обуваю отечественные полуботинки, которым до полных ботинок не хватает ни внешнего вида, ни внутреннего удобства, захлопываю свою постылую холостяцкую светелку, по длинному коридору с двумя десятками дверей и вонючим туалетом с дырой, оснащенной чугунными рифлеными следами, направляюсь к выходу из нашей многосемейной коммуны, где за мною закреплена репутация тихопомешанного алика-одиночки. Коридор - он же кухня, он же - прачечная, он же - помещение для сушки белья, он же ванная комната для купания в корыте младенца, он же - псарня с кошарней, домом престарелых и вечерним клубом с подачей сивухи окрестным джентльменам с разбойничьими рожами. Кисловато-пряное амбре родного коридора провоцирует подташнивание.
Дневной свет болен глазам. Настолько красивым небо бывает только в пору цветения маков. Скоро сезон, а с ним - спасение.
Какое все-таки потрясающее небо!..
Руки Салата, разукрашенные желтовато-синюшными кляксами, усыпанные кровавыми многоточиями - следами от иглы, подрагивают, его, видно, тоже здорово кумарит. Башка у Салата - Верховный Совет, если дело касается кайфа, приобретения отравы и перепродажи страдальцам вроде меня. Молотит Салат халдеем в кабаке, но тоскует о месте продавца пива. В нашем извращенном обществе работать лакеем престижнее и выгоднее, нежели владеть скальпелем или осциллографом; проблема сосисок, которых нет, народу важнее изобретения перпетуум мобиле. Салат, считающий всех нулями, а себя единицею, обладает акульей хваткой и алмазной логикой, в его наглых, циничных, поблескивающих эйфорией глазах сегодня высвечивается еще и алчность, предчувствие поживы. Как-то раз этот гад, издеваясь, продал одному горемыке, загибающемуся от ломок, ампулу сульфазина, а если вдуть эту мерзость - с ума сойти можно: температура подпрыгивает до сорока, ломки начинаются такие, каких и в самом страшном сне не бывает, наваливается страх, бред, галюны...