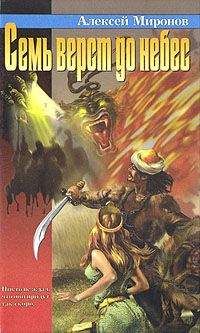Максим Горький - На пароходе

Обзор книги Максим Горький - На пароходе
Горький Максим
На пароходе
Алексей Максимович Горький
На пароходе
Вода реки гладкая, тускло-серебристая, течение ее почти неуловимо, она как бы застыла, принакрытая мглою жаркого дня, и только непрерывное изменение берегов дает понять, как легко и спокойно сносит река старенький рыжий пароход с белой каймой на трубе, с неуклюжей баржей на буксире.
Сонно чмокают шлепки плиц, под палубой тяжело возится машина, сипит-вздыхает пар, дребезжит какой-то колокольчик, глухо ерзает рулевая цепь, но все звуки - не нужны и как будто не слышны в дремотной тишине, застывшей над рекой.
Лето - сухое, и вода - низка; на носу парохода матрос, похожий на монаха, - худощавый, чернобородый, с погашенными глазами на желтом лице, мерно спуская за борт пеструю наметку, стонет-поет печально, тающим голосом:
- Сеем... се-ем... шесть... Словно жалуется:
"Сеем, сеем, а есть - нечего..."
Пароход не спеша поворачивает свой стерляжий нос то к одному берегу, то к другому, баржа рыскает, серый шнур буксира натягивается струною, дрожит; золотыми и серебряными искрами летят от него во все стороны брызги воды, - с капитанского мостика кричат в рупор толстые слова:
- Оол...уо...
Под носом баржи - белый крылатый вал, разрезанный надвое, он волнисто бежит к берегам.
В луговой стороне, должно быть, горят торфяники, там, над черными лесами, нависло опаловое облако, а может, его надышали болота.
С правой стороны берег высок, обрывист, голые глинистые скаты, но иногда они разрезаны оврагом, в нём - в тени - прячутся осины и березы.
Тихо, жарко, безлюдно на земле, в мутно-синем, выгоревшем небе раскаленное добела солнце.
Без конца расплылись луга, кое-где среди них одиноко стоят, заснув, деревья, звездою дневной горит над ними крест сельской колокольни, вскинуты в небо серые крылья мельницы, далеко от берега видны парчовые скатерти зреющих хлебов. Люди редко видны.
Всё вокруг немного слинявшее, спокойное и трогательно простое: всё так близко, понятно и мило душе. Смотришь на медленные, неуверенные изменения горного берега, на неизменную широту лугов, на зеленые хороводы леса, - они подходят к воде и, заглянув в зеркало ее, снова тихо уплывают в даль, смотришь и думаешь, что не может быть на земле столь просто и ласково красивых мест, каковы эти вот - тихие берега реки.
Уже на прибрежных кустарниках виден желтый лист, но всё вокруг улыбается двойственной, задумчивой улыбкой молодухи, для которой пришла пора впервые родить, - и страшит ее это и радует.
Время - далеко за полдень. Пассажиры третьего класса, изнывая от скуки и жары, пьют чай, пиво, многие сидят у бортов, молча глядя на берега. Дрожит палуба, звенит посуда в буфете, и всё вздыхает усыпительно матрос:
- Шесь... шесь с половина-ай...
Из машины вылез копченый кочегар и, развинченно покачиваясь, тяжело шаркая босыми ногами, идет мимо каюты боцмана, а боцман, светловолосый бородатый костромич, стоя в двери и насмешливо прищурив бойкие глаза, спрашивает:
- Куда торопишься?
- Митьку дразнить.
- И то - дело!
Болтая черными руками, кочегар пошел дальше, боцман, неохотно позевнув, оглянулся. Около спуска в машину на длинном ящике сидит маленький человечек в коричневом пиджаке, в новом теплом картузе, в сапогах, облепленных серыми комьями засохшей грязи. От скуки боцману захотелось распорядиться, он строго окрикнул:
- Эй, земляк!
Тот, пугливо и по-волчьи, - всем туловищем, - повернулся к нему.
- Ты чего тут сел? Написано - "Осторожно", а ты сел! Али неграмотен?
Пассажир встал и, оглядывая ящик, отозвался:
- Грамотный.
- А сидишь где нельзя!
- Не видать надпись-то.
- И жарко тут; из машины масляный дух. Ты откуда?
- Кашинской.
- Давно из дома?
- Третья неделя.
- Дожди у вас были?
- Не-е. Какие тут дожди!
- А отчего сапоги у тебя эдак грязны?
Опустив голову, пассажир выдвинул вперед одну ногу, потом другую, посмотрел на них и сказал:
- Это не мои сапоги.
Боцман ухмыльнулся, его светлая борода весело ощетинилась.
- Ты - что, пьющий, что ли?
Не ответив, пассажир тихо, короткими шагами, пошел на корму. Рукава пиджака опустились ниже кистей его рук, стало- ясно, что пиджак на нем с чужого плеча. Глядя, как осторожно и неуверенно он шагает, боцман нахмурился, закусил бороду, подошел к матросу, усердно оттиравшему голой ладонью медь на двери каюты капитана, и негромко сказал ему:
- Тут едет маленький, в рыжем пиджаке, сапоги грязные - видал?
- Видал будто.
- Скажи - поглядывали бы за ним.
- Жулик?
- Вроде того.
- Ладно...
За столом, около рубки первого класса, толстый человек, весь в сером, одиноко пьет пиво. Он уже осовел в тяжелом опьянении, глаза его слепо выкатились и, не мигая, смотрят в,стену. Пред ним на столе, в липких лужах, копошатся мухи, они ползают по его седоватой бороде, по кирпично-красной коже неподвижного лица.
Боцман сказал, подмигнув на него: ;
- Всё гасит.
- Такое его дело, - отозвался, вздохнув, рябой безбровый матрос.
Пьяный чихнул, мухи тучей взвились над столом; боцман поглядел на них и, тоже вздохнув, сказал задумчиво;
- Мухами чихает...
Я облюбовал себе место на дровах, около трюма кочегарни, и, лежа, смотрю, как темнеют горы, тихо подвигаясь встречу пароходу, бросая на воду траурную пелену. В лугах еще догорает вечерняя заря, стволы берез красны, новая крыша избы у самого берега точно кумачом покрыта, там всё плавится в огне и, теряя очертания, течет широкими ручьями красного, оранжевого, синего, а на горе стоит черный ельник и напряженно приподнят, острый, точеный.
Уже рыбаки зажгли костер под горою, огонь, играя, освещает белый борт лодки, темного человека в ней, паутину сети, повешенной на кольях, и бабу в желтой кофте, присевшую у огня. Над костром и женщиной растопырилось черное ветвистое дерево, и видно, как трепещут золотисто освещенные листья нижних веток.
Примятый сумраком вечера, говор пассажиров слился в сплошной, по-пчелиному гудящий звук: не видно и непонятно, кто о чем говорит, бессвязны слова, но как будто все говорят об одном, дружески и правдиво. Слышен сдержанный смех молодой женщины, на корме ладятся петь, но не могут найти песню всем по душе и негромко, без сердца, спорят. Во всех звуках есть что-то вечернее, мирно-печальное, похожее на молитву.
За дровами, близко от меня, густой, гудящий голос не спеша рассказывает:
- Был он парень-удача, опрятный, гладкой, а после того - замшился, запаршивел, в сучки пошел...
Другой голос, бодрый и звонкий, восклицает:
- Не тянись к барам, не пройдет даром...
- Однако сказано, рыба ищет - иде глубже...
- А дурак - что хуже! Он тебе не родня?
- Брат родной...
- О? Ну, прости за слово.
- Ничего. Он - дурак и есть, ежели прямо-то сказать...
К отводу подошел пассажир в коричневом пиджаке; держась левою рукой за стойку, он шагнул на решетку, под которой пенно кипела вода, взбитая колесом, и Долго стоял, глядя за борт, покачиваясь, напоминая летучую мышь, которая, зацепившись одним крылом за что-то, висит в воздухе. Глубоко надвинутый картуз согнул ему уши, и они смешно оттопырились.
Вот он обернулся, всматриваясь в сумрак под тентом парохода и, должно быть, не различая меня в дровах. Мне хорошо видно его лицо - острый нос, клочья рыжеватой шерсти на щеках и подбородке, маленькие, неясные глаза. Он, видимо, прислушивается к чему-то.
Вдруг он решительно шагнул на отвод, быстро отвязал от железа перил швабру, бросил ее за борт и тотчас стал отвязывать другую.
- Эй, - окликнул я его, - это зачем?
Он подпрыгнул, завертелся и, приложив руку ко лбу, отыскивая меня глазами, заговорил тихонько, быстро, заикаясь:
- Какое дело, а? Вот ведь!..
Я подошел к нему, удивленный и заинтересованный его озорством.
- За это с матросов взыщут...
Поочередно подтягивая вверх рукава пиджака, точно собираясь драться, и тихо притопывая ногою по скользкой решетке, он бормотал:
- Я вижу - отвязалась она, сейчас ее стрясет в реку! Хотел привязать да и не сумел - ускользнула из рук.
- А мне показалось, - заметил я, - что вы ее сами отвязали да сбросили.
- Ну вот, - зачем же! Разве можно!
Легко и быстро проскользнув под рукой у меня, он пошел прочь, всё поправляя рукава. Пиджак смешно укорачивал его ноги, и снова бросилось в глаза, что походка у него какая-то виляющая, тревожная.
Ночь пришла: люди заснули, ухо привыкло к неугомонному шуму машины, к мерному хлюпанью колес по воде и уже не воспринимает этот шум. Сквозь него ясно слышен храп спящих, тихие шаги, чей-то возбужденный шепот:
- Говорила я ему, ах говорила: "Яша, не надо, не надобно!"
Берега исчезли, о них вспоминаешь только по движению редких огней во тьме. В реке тускло блестят звезды, а за пароходом текут золотые отражения его огней, - дрожат, как будто желая оторваться и уплыть во тьму. Парчовая пена лижет темный борт; за кормою, настигая пароход, тащится баржа, на носу у нее прищурились два огня, а третий, на мачте, то заслоняет звезды, то сливается с огнями берега.