Александр Герцен - Том 11. Былое и думы. Часть 6-8
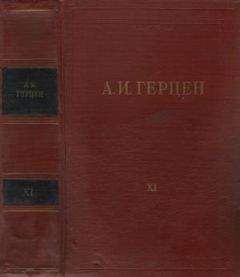
Обзор книги Александр Герцен - Том 11. Былое и думы. Часть 6-8
Александр Иванович Герцен
Собрание сочинений в тридцати томах
Том 11. Былое и думы. Часть 6-8
А. И. Герцен. С фотографии С. Л. Львова-Львицкого, 1861 г.
Государственный литературный музей, Москва.
Былое и думы
Часть шестая
Англия
(1852–1864)*
Глава I
Лондонские туманы
Когда на рассвете 25 августа 1852 я переходил по мокрой доске на английский берег и смотрел на его замаранно-белые выступы, я был очень далек от мысли, что пройдут годы, прежде чем я покину меловые утесы его.
Весь под влиянием мыслей, с которыми я оставил Италию, болезненно ошеломленный, сбитый с толку рядом ударов, так скоро и так грубо следовавших друг за другом, я не мог ясно взглянуть на то, что делал. Мне будто надобно было еще и еще дотронуться своими руками до знакомых истин для того, чтоб снова поверить тому, что я давно знал или должен был знать.
Я изменил своей логике и забыл, как розен современный человек в мнениях и делах, как громко начинает он и как скромно выполняет свои программы, как добры его желания и как слабы мышцы.
Месяца два продолжались ненужные встречи, бесплодное искание, разговоры тяжелые и совершенно бесполезные, и я все чего-то ожидал… чего-то ожидал. Но моя реальная натура не могла остаться долго в этом призрачном мире, я стал мало-помалу разглядывать, что здание, которое я выводил, не имеет грунта, что оно непременно рухнет.
Я был унижен, мое самолюбие было оскорблено, я сердился на самого себя. Совесть угрызала за святотатственную порчу горести, за год суеты, и я чувствовал страшную, невыразимую усталь… Как мне была нужна тогда грудь друга, которая приняла бы без суда и осуждения мою исповедь, была бы несчастна моим несчастием; но кругом стлалась больше и больше пустыня, никого близкого… ни одного человека… А может, это было и к лучшему.
Я не думал прожить в Лондоне дольше месяца, но мало-помалу я стал разглядывать, что мне решительно некуда ехать и незачем. Такого отшельничества я нигде не мог найти, как в Лондоне.
Решившись остаться, я начал с того, что нашел себе дом в одной из самых дальних частей города, за Режент-парком, близ Примроз-Гилля.
Дети оставались в Париже, один Саша был со мною. Дом на здешний манер был разделен на три этажа. Весь средний этаж состоял из огромного, неудобного, холодного drawing-room[1]. Я его превратил в кабинет. Хозяин дома был скульптор и загромоздил всю эту комнату разными статуэтками и моделями… Бюст Лолы Монтес стоял у меня пред глазами вместе с Викторией.
Когда на второй или третий день после нашего переезда, разобравшись и устроившись, я взошел утром в эту комнату, сел на большие кресла и просидел часа два в совершеннейшей тишине, никем не тормошимый, я почувствовал себя как-то свободным, – в первый раз после долгого, долгого времени. Мне было не легко от этой свободы, но все же я с приветом смотрел из окна на мрачные деревья парка, едва сквозившие из-за дымчатого тумана, благодаря их за покой.
По целым утрам сиживал я теперь один-одинехонек, часто ничего не делая, даже не читая; иногда прибегал Саша, но не мешал одиночеству. Г<ауг>, живший со мной, без крайности никогда не входил до обеда; обедали мы в седьмом часу. В этом досуге разбирал я факт за фактом все бывшее: слова и письма, людей и себя. Ошибки направо, ошибки налево, слабость, шаткость, раздумье, мешающее делу, увлеченье другими. И в продолжение этого разбора внутри исподволь совершался переворот… были тяжелые минуты, и не раз слеза скатывалась по щеке; но были и другие, не радостные, но мужественные; я чувствовал в себе силу, я не надеялся ни на кого больше, но надежда на себя крепчала, я становился независимее от всех. Пустота кругом окрепила меня, дала время собраться, я отвыкал от людей, т. е. не искал с ними истинного сближения; я и не избегал никого, но лица мне сделались равнодушны. Я увидел, что серьезно-глубоких связей у меня нет. Я был чужой между посторонними, сочувствовал больше одним, чем другим, но не был ни с кем тесно соединен. Оно и прежде так было, но я не замечал этого, постоянно увлеченный собственными мыслями; теперь маскарад кончился, домино были сняты, венки попадали с голов, маски с лиц, и я увидел другие черты, не те, которые я предполагал. Что же мне было делать? Я мог не показывать, что я многих меньше люблю, т. е. больше знаю; но не чувствовать этого я не мог, и, как я сказал, эти открытия не отняли у меня мужества, но, скорее, укрепили его.
Для такого перелома лондонская жизнь была очень благотворна. Нет города в мире, который бы больше отучал от людей и больше приучал бы к одиночеству, как Лондон. Его образ жизни, расстояния, климат, самые массы народонаселения, в которых личность пропадает, – все это способствовало к тому вместе с отсутствием континентальных развлечений. Кто умеет жить один, тому нечего бояться лондонской скуки. Здешняя жизнь, точно так же как здешний воздух, вредна слабому, хилому, ищущему опоры вне себя, ищущему привет, участие, внимание; нравственные легкие должны быть здесь так же крепки, как и те, которым назначено отделять из продымленного тумана кислород. Масса спасается завоевыванием себе насущного хлеба, купцы – недосугом стяжания, все – суетой дел; но нервные, романтические натуры, любящие жить на людях, умственно тянуться и праздно млеть, пропадают здесь со скуки, впадают в отчаяние.
Одиноко бродя по Лондону, по его каменным просекам, по его угарным коридорам, не видя иной раз ни на шаг вперед от сплошного опалового тумана и толкаясь с какими-то бегущими тенями, я много прожил.
Обыкновенно вечером, когда мой сын ложился спать, я отправлялся гулять; я почти никогда ни к кому не заходил; читал газеты, всматривался в тавернах в незнакомое племя, останавливался на мостах через Темзу. С одной стороны прорезываются и готовы исчезнуть сталактиты парламента, с другой – опрокинутая миска св. Павла… и фонари… фонари без конца в обе стороны. Один город, сытый, заснул; другой, голодный, еще не проснулся – пусто, только слышна мерная поступь полисмена с своим фонариком. Посидишь, бывало, посмотришь, и на душе сделается тише и мирнее. И вот за все за это я полюбил этот страшный муравейник, где сто тысяч человек всякую ночь не знают, где прислонить голову, и полиция нередко находит детей и женщин, умерших с голода, возле отелей, в которых нельзя обедать, не истративши двух фунтов.
Но такого рода переломы, как бы быстро ни приходили, не делаются разом, особенно в сорок лет. Много времени прошло, пока я сладил с новыми мыслями. Решившись на труд, я долго ничего не делал или делал не то, что хотел.
Мысль, с которой я приехал в Лондон – искать суда своих, – была верна и справедлива. Я это и теперь повторяю с полным и обдуманным сознанием. К кому же, в самом деле, нам обращаться за судом, за восстановлением истины, за обличением лжи?
Не идти же нам тягаться перед судом наших врагов, судящих по другим началам, по законам, которых мы не признаем.
Можно разведаться самому, можно, без сомнения. Самоуправство вырывает силой взятое силой и тем самым приводит к равновесию; месть – такое же простое и верное человеческое чувство, как благодарность; но ни месть, ни самоуправство ничего не объясняют. Может же случиться, что человеку в объяснении – главное дело, может быть ему восстановление правды дороже мести.
Ошибка была не в главном положении – она была в прилагательном: для того чтоб был суд своих, надобно было прежде всего иметь своих. Где же они были у меня?..
Свои у меня были когда-то в России. Но я так вполне был отрезан на чужбине… Надобно было, во что б ни стало, снова завести речь с своими, хотелось им рассказать, чтό тяжело лежало на сердце. Писем не пропускают – книги сами пройдут; писать нельзя – буду печатать; и я принялся мало-помалу за «Былое и думы» и за устройство русской типографии.
Глава II
Горные вершины
Издавая прошлую «Полярную звезду», я долго думал, чтó следует печатать из лондонских воспоминаний и чтó лучше оставить до другого времени. Больше половины я отложил, теперь я печатаю из нее несколько отрывков.
Что же изменилось? 59 и 60 годы раздвинули берега. Личности, партии уяснились, одни окрепли, другие улетучились. С напряженным вниманием, останавливая не только всякое суждение, но самое биение сердца, следили мы эти два года за близкими лицами; они то исчезали за облаками порохового дыма, то вырезывались из него с такою яркостью, росли быстро, быстро и снова скрывались за дымом. На сию минуту он рассеялся, и на сердце легче, все дорогие головы целы!
