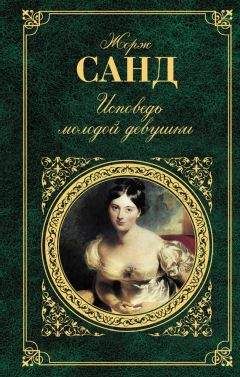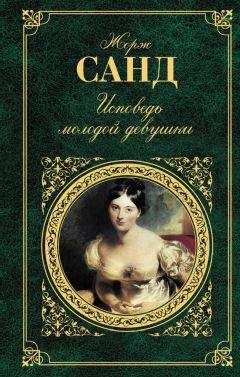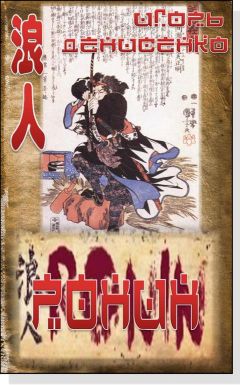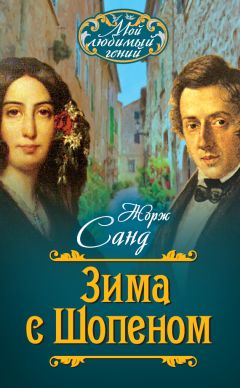Жорж Санд - Исповедь молодой девушки (сборник)
После обеда, подав мне руку и ведя в гостиную, Мак-Аллан восхищенно говорил о глубоких познаниях Фрюманса.
– Быть может, это не вполне совместимо с моим долгом, – шутливо сказал он, – но мне так хорошо и вольно у противной стороны, что век бы не уходил. Просто не припомню, когда еще я так приятно проводил время за обедом, как сегодня, в этой прохладной, полной свежего воздуха комнате с видом на необъятный, прокаленный солнцем пейзаж и на море, сверкающее вдали, в обществе трех человек, по-своему замечательных. Госпожа Женни воплощает для меня все лучшее, что есть во французском народе, – его доброжелательность, преданность долгу, рассудительность, здравомыслие и прямодушие. Ее жених – я ведь не ошибся, он ее жених? – истинный философ, редкий ум. Ни разу в жизни я не встречал столь глубокого понимания жизни в сочетании с такой несравненной простотой нравов и чистосердечностью. А вам, мадемуазель Люсьена, я просто не смею высказать всего, что думаю о вас, из боязни оскорбить вашу скромность.
– Ну, на этот раз вы погрешили против правды! – воскликнула я, смеясь. – Слушая заслуженные похвалы моим друзьям, я радовалась вашей проницательности, но сейчас вам вздумалось сделать комплимент и мне, а я за все время трех слов не произнесла. Тут я поняла, что вы просто решили посмеяться над нами, а это неблагодарно и жестоко по отношению к людям бесхитростным, которые приняли вас с полным радушием.
– Нет, вы только послушайте! – воскликнул Мак-Аллан, обращаясь к подошедшему Фрюмансу. – Мадемуазель де Валанжи обидела меня: она думает, будто я все еще ее не разгадал!
– Не разгадали? – повторил Фрюманс. – А разве нуждается в разгадывании та, которой во всю ее жизнь нечего было скрывать? Та, что по склонностям и складу характера никогда ничего не скрывает?
– Простите, – возразил Мак-Аллан, – она скрывает образованность, ум, редкие свои достоинства, потому что отличается скромностью – свойством, обаятельным в любой женщине и особенно драгоценным в особе, столь богато одаренной. Правильно я разгадал?
– Правильно, – сказал Фрюманс. – Поэтому вы, не колеблясь, воздали должное, назвав ее именем, ей принадлежащим.
– Мадемуазель де Валанжи, – продолжал Мак-Аллан, который, несомненно, оговорился, но, как всегда, нимало этим не смущенный, – я не беру на себя никаких обязательств, называя вас именем, к которому вы привыкли: это ведь общеизвестное правило учтивости – даже свергнутых королей именовать «величествами». Я английский протестант, но, входя в католический храм, обнажаю голову перед божеством, которому там поклоняются, потому что знаю – оно заслуживает поклонения, каково бы ни было вероисповедание. Вы только что бросили мне горький упрек, заподозрили меня в том, что и мое восхищение и моя приязнь наиграны. Скажите, сударь, вы тоже так думаете?
– Нет, – ответил Фрюманс, словно клинком вонзаясь взором больших черных глаз в ясную голубизну глаз Мак-Аллана. Эти люди столь непохожих обликов, один – воплощение изящества, другой – мужественности, казалось, бросали вызов искренности друг друга. Каждый как будто говорил: «Если вы мне лжете, я вас раздавлю!»
Но Мак-Аллан, бесстрашно отразивший гордый вызов Фрюманса, перед моим вызовом смешался: я нисколько не была тронута его восхвалениями, и женское тщеславие ни на минуту не затмило мне разум. Изменившись в лице, адвокат сказал, что его знобит, продолжая, однако, хвалить нас за умение сохранять прохладу в домах.
– Ну, если вам здесь чересчур прохладно, делу помочь легко, – заметил Фрюманс. – Стоит шагнуть за порог, и вы сразу согреетесь.
Они вместе вышли на лужайку, беседуя так оживленно, что Женни решила подать им кофе под китайским питтосфором, где, случалось, мы завтракали за маленьким столиком.
– А мадемуазель де Валанжи не присоединится к нам? – спросил Мак-Аллан, повышая голос так, чтобы услышала и я в гостиной.
– Нет, – ответила Женни, – мадемуазель никогда не пьет кофе.
– Очень жаль! – воскликнул Мак-Аллан, усаживаясь за столик вместе с Фрюмансом, который был рад возможности поговорить с адвокатом без помех.
Я тоже считала, что не надо мешать их беседе, и стала помогать Женни по хозяйству. Для нас это уже не было удовольствием – мы понимали, что, быть может, скоро распростимся с благоустроенной жизнью, но обе заботливо поддерживали ее, чтобы не из-за нас и нашего небрежения начало разрушаться все созданное бабушкой.
Через час появился Фрюманс.
– А где адвокат? – спросила Женни.
– Ушел, не пожелав попрощаться с вами.
– Уж не решил ли он, что я рассердилась? – спросила я.
– Не знаю. Он был очень взбудоражен.
– Чем? Что вы о нем думаете?
– Что он пьян.
– Да ведь он пил, можно сказать, одну воду, а трезвенниками англичан никак не назовешь, – заметила Женни.
– Я, честно говоря, не обратил внимания, сколько он пил, но если вы говорите, что мало, тогда мне совсем непонятно, в чем дело. Возможно, это какое-то духовное опьянение, но так или иначе, поверьте, он был не в себе. Да он и сам это понимал, потому что ушел, не то плача, не то смеясь, и повторял, что у него разыгралась невралгия и в таком виде нельзя показываться дамам.
– Думаете, это была комедия?
– Нет, скорее действие нашего климата, непривычного для него, что бы там он ни говорил. Когда эти северяне начинают заигрывать с южным солнцем, оно частенько их кусает.
По сосредоточенному виду Женни я поняла, что она хочет поговорить с Фрюмансом наедине, и под каким-то предлогом ушла из комнаты.
LI
С Женни мы увиделись только за ужином. К тому времени Фрюманс уже ушел.
– Знаете, – сказала она, – последние двое суток Фрюманс в большой тревоге: он решился ехать в Америку.
– Боже мой! Ты так хладнокровно говоришь об этом, Женни! Как он добр, мой дорогой Фрюманс! Он так необходим дядюшке, но готов покинуть его, так привязан к тебе, но готов разлучиться с тобой, и все только для того, чтобы искать в этой дали доказательств моих прав, скорее всего несуществующих!
– Да, стоило мне заикнуться вчера о своем намерении, как Фрюманс сразу решил, что ехать туда лучше ему, но господину Костелю ночью стало совсем худо, а я ходить за ним не могу – нельзя же бросить вас совсем одну в этом доме. Поэтому Фрюмансу надо отложить поездку. И знаете, что придется сделать? Чтобы прекратить толки обо мне… такие, что и пересказывать неприятно, придется нам с Фрюмансом обвенчаться.
– Женни, – воскликнула я, бросаясь ей на шею, – как я рада за вас обоих!
Я была искренна, говоря это, но сердце мое разрывалось. Мне чудилось, что я теряю и Женни и Фрюманса, что теперь всегда буду одна, что среди обломков постигшего меня крушения любовь обласкает и утешит всех моих близких, и только я, никому не сумевшая внушить ее, до самой смерти так и проживу нелюбимой. Вся неутоленная сердечная жажда, все упования, прежде неосознанные, а ныне жестоко растоптанные, быть может, смутное воспоминание о радости, испытанной в те давние дни, когда я вообразила, будто любима Фрюмансом, бог весть, что еще – острая боль, невыразимое сожаление, двойная беспощадная ревность сжали мне грудь с такой силой, словно вместе с надеждой меня покидала и сама жизнь. Что было дальше, не помню. Очнулась я в своей постели: волосы мои растрепались, я расцарапала себе руки, прокусила губу. Бледная, встревоженная Женни сжимала меня в объятиях.
– Что это со мной, Женни? Что случилось? Я упала? Умерла? – спросила я, стараясь вспомнить.
– Вам было очень плохо, я даже испугалась, не помешались ли вы. Должно быть, в салат попала какая-то ядовитая трава. Но успокойтесь, теперь все прошло и, надеюсь, не повторится.
Тут я вспомнила, что Женни вот-вот выйдет за Фрюманса, и, ни словом не выдав, как мне это горько, залилась слезами.
– Поплачьте, – сказала Женни. – Невыплаканные слезы душат человека. Поговорим, когда вы совсем поправитесь.
Я была так измучена, что уснула крепчайшим сном и проснулась против обыкновения поздно. Как только Женни утром вошла ко мне, первый мой вопрос был о здоровье аббата.
– Лучше ему не стало, пожалуй, даже хуже, – ответила она. – Доктор Репп уже был у него сегодня, хотя аббат и сердился: он не желает лечиться, говорит, что совершенно здоров. Но доктор сказал, что у него воспалился желудок и что это очень опасно.
– Бедный наш аббат! Неужели и он покидает меня? Я разом теряю всех, кто был мне опорой, всех друзей!
– Только, с вашего позволения, не меня: если случится несчастье и аббат не выживет, Фрюманс немедля отправится в Канаду, а какой смысл выходить замуж, чтобы тут же расстаться?
– Но я не хочу, чтобы Фрюманс из-за меня ехал неведомо куда! Я ему запрещаю уезжать! Я хочу, чтобы ты наконец подумала о себе, чтобы ты была счастлива, Женни!
– Я не для своего счастья собиралась замуж. Какое уж тут счастье, коли вы несчастливы!
– Клянусь, что бы ни случилось, мне будет хорошо, если хорошо будет тебе. Поэтому выходи поскорей замуж!