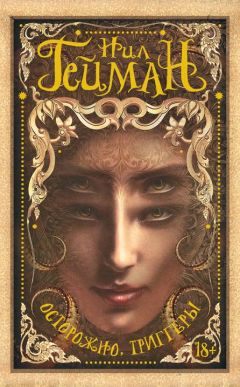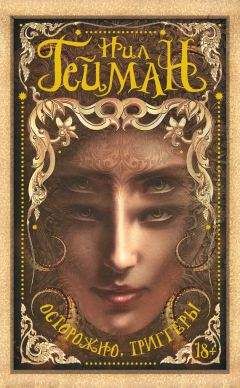Владислав Ляхницкий - Золотая пучина
Устин отпил ещё квасу. Усмехнулся криво.
— С Кузьмой, поди, телушек считал? Дураки значит оба. Телушки! Лошадушки! Домики! На-кось вот выкуси! — сложил волосатые пальцы в здоровенный кукиш, сунул Сысою под нос. — Мне адвокат сказал: крестьянское хозяйство зорить нельзя. Только за недоимки, а твои счета — тьфу! Жди, дурак, пока у Устина опять заведутся деньги.
— Нут-ка. А может Сысой не такой уж дурак?
— Настоящий дурак. Я дураком оказался, обглодали меня со всех сторон, как собака кость не обгложет, а те и объедков не перепало. Выходит, ты дурнее меня.
— А — может и не дурнее? На каждой твоей расписке пунктик особый есть. Вот послушай, к примеру: «Обязуюсь уплатить наличные деньги. А не будет тех денег, рассчитаться с Сысоем Пантелеймоновичем Козулиным любым моим имуществом, как движимым, так равно и недвижимым». Ну, кто дурней?
Зимней стужей пахнуло на Устина от Сысоевых слов. Багровый туман стал закрывать комнату и незваных гостей.
— За домом пришёл? Мельницей? Лошадями? За этой рубахой пришёл? На… на… на… — разорвал на груди рубаху. — На Устинову шкуру, иуда! Сдирай! Сапоги себе сшей из Устиновой шкуры.
Матрёна прикрыла ладонями голову, сжалась, и, опасливо озираясь, засеменила из мужниного кабинета.
— Батюшки-светы, што чичас будет?!
Сысой отступил к окну. Староста с понятыми вскочили и боком, боком к двери.
Страшен Устин в ярости. Скособочась, косолапя, он глыбой стоял посреди кабинета с поднятым стулом. Хрипел.
И тут истошный Матрёнин крик:
— Устинушка, хуже наделашь!
— Хуже? — красный туман рассеялся. Устин отпустил стул. бросил Сысою:
— Не жмись к стенке, как заяц. Это я шутковал. Садись к столу и считай. Да смотри не шельмуй. Совести у тебя — на ломаный грош.
Вышел на кухню. Долго плескался и фыркал над лоханью. Спорил с Матрёной.
— Устинушка, ежели много долгов, так отдай супостату избёнку-то стару,
— Учи, дура. Одной избёнкой не отобьёшься. Придется, видно, коровёнок отдать. Ну-ну, не реви, оставлю тебе двух и хватит.
— Дык как же хватит, Устинушка. Нонче как выгонишь к проруби — стадо, а то — две коровёнки. Отдай хоть каких ни то лошадок.
— А это не хошь? — сунул кукиш под нос Матрёне.
Холодная вода помогла Устину взять себя в руки.
В груди всё ещё бушевало, но вышел к Сысою спокойный, подтянутый. Борода аккуратно расчёсана. Синий костюм, сапоги со скрипом надел.
— Ну што, Сысой, посчитал?
— Чего считать-то. Я ещё в городе всё посчитал. Пять тысяч двести сорок рублей за тобою долгу.
У Устина в глазах потемнело.
— Врёшь!
— С чего это врать-то буду. В делах счёт нужен точный.
— Во-во. А ты несуразицу каку-то выдумал. Эй, Ксюха! Твоей грамоты хватит, штоб расписки читать? — крикнул Устин.
Вошла Ксюша.
— Хватит, поди.
— Так иди-кось сюда и садись рядом. — Вынул из стола изукрашенный краской мешочек из юфты, бросил на стол. Рассыпались по зелёной глади стола «считальные кости»: кедровые орешки — копейки; куриные позвонки — гривенники; хрульки от телячьих ног — рубли, такие же хрульки, но крашеные дёгтем — десятки, а красной краской- сотни.
Ксюша потянулась за костями, но Устин шлепнул её по руке.
— Молода еще. Бумажки читай, а счет вести буду сам. Ну, сколь платить по первой расписке?
— За две бочки спирта и привоз их в село Рогачёво — сто семнадцать рублей. Подписал Сёмша.
«Ишь, сучий франт, сколь сразу ухлопал», — выругался Устин про себя и, крякнув, положил на тарелку красный хруль — сто рублей, чёрный хруль — десять рублей, семь белых хрулей. Переспросил:
— А копеек сколь?
— Двадцать три.
— Так… — положил два куриных позвонка и три кедровых орешка.
Когда ежедневно сыпалось золото в мошну Устина, долг казался мизерным: несколько дней работы Богомдарованного — и все. Золотой угар прошёл. Теперь давил каждый рубль,
Ксюша читала расписки. На тарелке у лампы росла груда считальных костей. «Ох, однако, коровенками тут не отделаешься, — чесал Устин за ухом. — Однако придется гнедых кобыленок отдать да каурого мерина».
— Сысой, скоро конец распискам-то?
— До половины ещё не добрел.
— Да ну? — и подумал: «Как бы не пришлось выездных рысачков отдавать. Жаль рысаков-то будет, Других таких нет по округе».
— За сто тридцать три пуда железа разного по цене девяносто шесть копеек за фунт, — читала Ксюша. — Што-то дороговато, Сысой Пантелеймонович, ценишь. На заводе…
Сысой с издевкой:
— За морем телушка полушка. да рупь перевоз. Эту расписку сам Устин Силантич проверял. Так ведь, — Устин Силантич?
— Вроде бы так. Сколь класть всего, Ксюха?
— Постой, дядя, кости класть. Мне на прииск Иван Иваныч железо покупал по шесть гривен.
— Так железо железу рознь, — оборвал Сысой и с ехидцей спросил Устина: — Ты сам проверял, а девка насупротив. Девка умней тебя хочет быть?
Устин закряхтел. В другое время залепил бы Ксюхе такую оплеуху, что в трубе засвистело, но сегодня молчит. Хмыкает, хмурится, но молчит. Может и правда удастся скостить долг.
— Считай, считай, — напирала Ксюша. — Стой, это ты куда на каждую подводу по коновозчику ставишь? Отродясь груз возил один коновозчик на трёх лошадях.
— Дак...
— Скидывай двух коновозчиков, Вот и получится — шесть гривен фунт. А в этой расписке пошто ты ставишь будто груз вьючно привёз? Дело-то было под рождество. Дорога-то санная. Ты, Сысой Пантелеймоныч, кулак-то мне не кажи и пальцем в Сёмшину подпись не тычь. Я дело спрашиваю.
— У, чёрт. Ошибка опять получилась.
— На пересчитай, как правильно будет.
— Молодец, Ксюха, — похвалил Устин, а Матрёна закусила губу. «Не дай бог, сноха умней свекрови себя посчитает. Беда».
Сысой грыз карандаш от злости, но увидев очередную расписку с «жиром», сразу теперь откладывал её в сторону.
— Погоди, Ксюха, никак и в этой ошибка вышла.
— Уж больно много ошибок, Сысой Пантелеймоныч. Да все в одну сторону.
Ежился Сысой: «Умная, шельма…» С новой силой вспыхнуло давнишнее восхищение девушкой.
— Все расписки, Сысой Пантелеймоныч? Как, дядя, начнём считать, чем долг платить?
— Считай… Сама…
Матрёна, неслышно ступая, подошла к столу, зябко кутаясь в пёструю шаль с длинными кистями. Губы в малинку поджаты.
— Устинушка, коровёнок не трожь.
— Цыц, баба! Не лезь в мужицкое дело.
— Это как так, не лезь? — И подвизгнула — Ксюха у тебя в мужиках. ходит. Вместе с тобой все дела ведёт, а бабе родной рта раскрыть не даешь…
— Молчи, а то вот, — Устин показал кулак. Обернувшись к столу, дернул за руку вскочившую Ксюшу, — Куда ты? Считай.
— Ой, лишеньки… Ой, — стонала на кухне Матрёна. Стонала не потому, что мужнин кулак попал под ребро, — это было привычно — от обиды, от страха за будущее причитала Матрёна.
Сысой вынул из кармана бумагу и протянул Ксюше. — У меня всё переписано. Вместе с Кузьмой Иванычем оценили каждую лошадь, каждую тёлку, каждую сбрую. Дом. Мельницу…
— Напрасно старались, — зло оборвал Устин. — Мельница… Дом… Возьмёшь не по выбору, а што дам.
— Шутить изволишь, Устин Силантич. Как Ксюха расписки исправила, долгу твоего осталось четыре тысячи семьсот рублей, а мельница, дом с лошадками и телушками едва на четыре тысячи сто набёрется. Шестьсот рубликов надо барахлишком перекрывать. А наберётся ли у тебя на шестьсот рублей барахлишка-то в доме?
— Врёшь: Ксюха, считай. Он тут намошенничал, как в расписках.
Сысой закрестился.
— Как перед богом. Два списка было. Один, не скрою, малость того… А этот? Для себя составлял. Да чего там. Ксюха, читай.
И Ксюша, наклонившись к лампе, прочла:
— Мельница — две тысячи рублей.
«Цена верна», — согласился Устин про себя.
— Дом новый, дом старый, амбар, кобыла чалая, кличка «Звёздочка», кобыла гнедая, кличка «Матаня»…
Везде цены верные.
— Четыре тысячи сто двадцать рублей, — прочла Ксюша.
— Четыре тысячи сто двадцать рублей, — эхом повторил Устин и сел на краешек табуретки. Мысли бились, как лошади в горящей конюшне. «В суд? Все одно заставят платить. Да ещё издержки на меня наклепают. Кинуться в ноги Сысою? Не зверь, поди, пожалеет, отсрочки даст…». Привстал. Не разгибаясь, шагнул. И замер. Перед глазами трясущийся Кузьма тянет к Устину дрожащие руки с растопыренными пальцами и просит: «Устинушка, родненький, положи хоть пятьсот за мельницу… По дружбе…» — «Эй, кто там! Дайте Кузьме квасу испить». И тут на месте Кузьмы увидел себя на коленях, и уже Сысой кричит: «Эй, кто там! Квасу Устину. Ишь, как его скособочило».
Сысой ходил по комнате, осматривал вещи, говорил нарочито медленно, давая Устину до конца прочувствовать смысл каждого слова.
— Столик-то этот сорок рублей стоил. Сам покупал для тебя, Устин Силантич. Торговался до хрипоты. Хорош столик, да пошто ты его поцарапал с угла. Придется скостить, — и записал в оценочной ведомости: — Стол письменный, с тумбами, под зелёным сукном, с угла поцарапанный — тридцать шесть рублей сорок копеек.