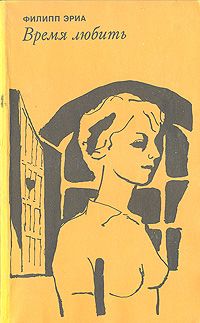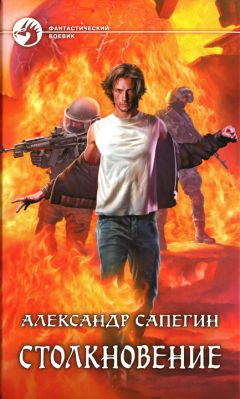Филипп Эриа - Семья Буссардель
Вдруг Амели остановилась, вся изменившись в лице, нерешительно поглядела на одного, на другого своего спутника и обратилась к мужу:
- Скажи, а мама?..
- Как! - воскликнула Амели. - Вы ее оставили одну? Одну, когда в Париже восстание?
Викторен выпустил руку жены и прошел вперед.
- Амели, - сказал Буссардель, взяв ее за руки. - Я знаю, вам будет очень горько... Дорогая моя жена скончалась.
Амели громко вскрикнула, другие этого не слышали: они были уже далеко.
- Значит, я больше ее не увижу, - сквозь слезы шептала им. - Никогда больше не увижу... А Викторен ничего мне не сказал!..
Буссардель объяснил ей, что его сыну Амори и зятю поручено сообщить Ноэми и Луизе о смерти матери, но лишь когда они будут в своих комнатах, и притом сказать о постигшей их утрате очень осторожно. Он и сам хотел... Амели стояла опустив голову и не слушала его.
- Как же это случилось? Когда? - тоскливо спросила она. - Вы мне ничего не писали...
Она плакала, не вытирая слез. Буссардель, по-видимому уже свыкшийся со своим несчастьем, без волнения стал рассказывать, какие ухудшения произошли за последние недели в состоянии больной и как он считал бесцельным сообщать об этом Амели, раз она находится далеко от Парижа, а кругом идет война со всеми ее опасностями.
- Бедняжка Теодорина очень тревожилась за всех нас. Корила себя за то, что она связала всех, лежит на нас мертвым грузом. "Тебе лучше уехать из Парижа, - говорила мне она, - поезжай, мой друг, оставь меня". Я, понятно, возражал, успокаивал, обещал, что никогда ее не покину. "Нет, если это будет необходимо, уезжай", - твердила она. А как-то раз сказала: "Лучше бы мне умереть!"
- И вот умерла, - тихо сказала Амели.
- Да. В прошлом месяце, восемнадцатого. Двадцать первого мы ее проводили на кладбище Пер-Лашез.
- Оставьте меня на минутку одну, папа. Мне хочется подумать, успокоиться.
Она стояла неподвижно и с глубокой тоской, с болью в сердце думала об умершей. Так вот какой конец ждал Теодорину Буссардель... И ей представилось, как больная лежала неподвижно в своем роскошном особняке, хорошо понимая, что ей надо умереть, что этого требуют интересы семьи. А как только ее не стало, муж и сыновья бросили ее и бежали, едва успев положить надгробный камень.
Буссардель догнал Викторена, и они пошли вместе. Амели стало холодно, уже вечерело, она вздрогнула и в одиночестве двинулась к дому, замыкая шествие своих родственников.
К обеду мужчины вышли в охотничьих или в домашних костюмах, остававшихся в Гранси с прошлого лета. Нежданная скорбная весть застала женщин врасплох - не все они были в черных платьях. Луиза и Ноэми, узнав наконец о смерти матери, пожелали остаться у себя в комнатах, и таким образом за столом не было очень горестных лиц: муж и сыновья уже три недели оплакивали ее, и скорбь их немного притупилась. За обедом царило оживление, ведь собрались близкие люди, которым радостно было встретиться, им многое хотелось сказать друг другу! Лишь одна Амели тяжело переживала удар, но она уже овладела собой; теперь она больше чем когда-либо должна была выполнять свой долг рачительной хозяйки дома. Одеваясь к обеду, она невольно с грустью думала, что теперь ее никогда не назовут госпожа Буссардель младшая.
Когда встали из-за стола, свекор, извинившись перед женой своего брата, предложил снохе руку и, удалившись с нею в гостиную, отвел ее к окну.
- Ваша свекровь, дорогая Амели, оставила для вас письмо, - сказал он, доставая конверт из кармана. - Я нашел его в секретере Теодорины вместе с другим письмом, адресованным мне. Больше никаких писем она не оставила. Оба письма были запечатаны.
Амели взволнованно поблагодарила его и, спрятав конверт за корсажем, принялась за обычные хлопоты: велела принести лампы, подбросить дров в камин, пододвинуть кресла к огню, обнести всех кофе и вышла из гостиной под тем предлогом, что ей нужно отдать распоряжения.
Все сели кружком. В камине пылали толстые поленья. Мужчины с удобствами расположились в мягких креслах, полулежа или закинув ногу на ногу, все испытывали приятное ощущение комфорта после приятных ощущений от вкусных яств. Обед был обильный и тонкий. Расспросив почтальона и еще не зная, не осталась ли она вдовой, Амели заказала обед, которым можно было подкрепить силы путешественников, утомленных долгой и трудной дорогой.
Гостиная, где все собрались у камелька, очень большая комната, занимавшая весь нижний этаж центрального корпуса - от одного крыльца до другого, - была обставлена с чисто парижской роскошью, здесь совсем не чувствовалась деревня.
Пушистые ковры, портьеры, ниспадавшие крупными складками, подбитые шелком бархатные гардины с ламбрекенами, подхваченные витыми шнурами, на стенах обои темно-красного атласа, затканного узором из листьев, изобилие драпировок, кистей, бахромы, стеганых пуфов, золоченых рам, бронзы, японских ваз, ламп - все здесь воспроизводило стиль парижской гостиной Буссарделя.
В этом доме, окруженном буйной зеленью беррийских садов и полей, комнаты украшали хилыми растениями в расписных фаянсовых горшках. Влияние Теодорины Буссардель, которая так и не могла привить семье свой тонкий вкус и с годами проявляла его лишь в своих собственных комнатах, в Гранси совсем не чувствовалось. В тяжеловесной обстановке большой гостиной было столько солидности, прочности, что днем, когда из высоких окон этой мрачной комнаты видны были зеленые лужайки, цветы, деревья и небо, они казались театральной декорацией, задником, на котором написан парк.
По просьбе женщин Буссардель рассказал об осаде Парижа, говорил о бесконечных очередях у дверей булочных и мясных, упомянул, конечно, о долготерпении народа, но больше всего повествовал о благородной выдержке правящих классов, о горестном изумлении Парижа при вести о перемирии, о жестоком унижении, которым было для всей столицы вступление в нее победителей.
- Но Париж проявил высокое достоинство, - сказал он.
- Да уж Париж умеет держать себя в таких случаях, - воскликнула тетя Лилина, которая ввиду исключительных обстоятельств притащила аббата к столу в гостиную. Она торопливо добавила: - Ведь я-то видела, что делалось в тысяча восемьсот пятнадцатом году...
- Высокое достоинство! - повторил Буссардель, пытаясь остановить сестру. - Ни единой души на улицах, все дома...
- Я-то видела, что делалось в тысяча восемьсот пятнадцатом году... Ты разрешишь, Фердинанд? Это очень интересно для наших малышей: им никогда не доводилось послушать очевидцев событий, происходивших в те времена. Ведь в тысяча восемьсот пятнадцатом году в Париже, куда ни глянь, везде стояла вражеская армия!.. А кстати, Фердинанд, сколько времени длилась у вас оккупация?
- Двое суток.
- Двое суток? - воскликнула она и засмеялась мелким смешком. - Вот как нынче делается история!
Пришлось дать ей выговориться. Среди почтительного молчания слушателей она в сотый раз повторила свои излюбленные рассказы, в частности анекдот о завтраке в ресторане Вери, когда она собственными своими глазами видела и собственными ушами слышала, как ее покойный отец отослал обратно на кухню фазан "Священный Союз", потому что за соседним столиком казаки заказали то же самое блюдо.
- "Метрдотель, довольно с нас этой дичи!" - вот что произнес отец очень громким голосом, можно сказать, отчеканил, в упор глядя на русских. Дети мои, - сказала тетя Лилина в заключение, - парижанин прошлого поколения умел заставить уважать себя.
Гостиная огласилась восторженным оханьем и аханьем: тут еще не все слышали о смелых словах прадедушки. Как раз в эту минуту возвратилась Амели, по-видимому, она опять плакала: глаза и нос у нее покраснели, а лицо казалось от этого бледнее. Буссардель поднялся, пересек по диагонали гостиную и, подойдя к снохе, вопрошающе посмотрел на нее. Она отвела глаза в сторону и направилась к камину, где кружком стояли кресла.
Оба они сели. Никто не заметил немой сцены, происшедшей между ними. Тетя Лилина уже умолкла; все стали просить Фердинанда Буссарделя продолжать свое повествование, он довел его до провозглашения Коммуны, которое и заставило Буссарделей бежать: ведь было совершенно логично, что Буссардели, оставшиеся в Париже, занятом врагом, бежали от Коммуны.
- Мы не единственные, кто решил избежать гнусной рекрутчины, введенной Клюзере. Но на заставах инсургенты стерегли крепко. Чаще всего парижане прибегали к такой хитрости: одетые во все черное, с цилиндром в руке, они шли за катафалком, на котором везли какого-нибудь покойника в пригород на кладбище. Я предпочел уловку другого сорта: отправился на Кэ д'Орсе в одно из иностранных посольств и попросил, чтобы нас взяли в фургон, который отбывал за границу. Места нам были обещаны, но фургон отбыл без нас.
- Ах, боже мой! - вздохнула одна из дам.
- Но в конце концов некий огородник из Шуази-ле-Руа согласился посадить нас на козлы вместо своих возчиков, когда телеги огородников вереницей возвращаются в деревни. Пришлось, разумеется, заплатить чистоганом кругленькую сумму.