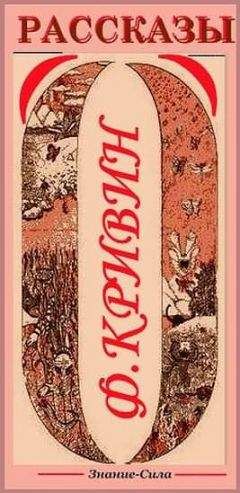Стефан Цвейг - Мария Антуанетта
О сцене, разыгравшейся в эту ночь между отчаявшейся матерью и служащими магистрата, мы не располагаем никакими свидетельскими показаниями, кроме крайне недостоверных свидетельств единственного очевидца - дочери Марии Антуанетты. Правда ли, что, как сообщает будущая герцогиня Ангулемская, Мария Антуанетта в слезах умоляла этих служащих, выполнявших лишь свой служебный долг, оставить ей ребенка? Что она призывала их убить ее, но не разлучать с сыном? Что служащие (звучит это совершенно неправдоподобно, ведь на это они не имели никаких полномочий) угрожали убить обоих детей в случае, если она будет продолжать сопротивляться, и наконец после длительной борьбы, применив грубую силу, увели с собой кричащего, рыдающего ребенка? В официальном сообщении об этом ничего не говорится; желая несколько смягчить действительность, исполнители докладывают: "Расставание сопровождалось всеми проявлениями чувств, которые можно было ожидать в подобной ситуации. Представители народа выказали уважение, совместимое с важностью возложенной на них миссии". Таким образом, одно сообщение противоречит другому, одна партия - другой, а там, где спорят партии, истина редка. Но одно не вызывает сомнения: эта насильственная и неоправданно жестокая разлука с сыном была едва ли не самым тяжелым мгновением в жизни Марии Антуанетты.
Мать была привязана к этому белокурому шаловливому, не по годам развитому ребенку; мальчик, которого она хотела воспитать как короля, своей болтливой веселостью, своей привычкой задавать бесчисленные вопросы сделал терпимым время в уединенной башне. Безусловно, он был ближе матери, чем ничем не примечательная дочь. Недружелюбная, с угрюмым, мрачным характером, с вялым умом, она по сравнению с этим ласковым и удивительно смышленым мальчуганом не так-то уж сильно располагала к себе вечно живую восприимчивость матери. И вот сейчас с такой жестокой злобой мальчика навсегда отрывают от нее. Ведь, хотя дофин и далее останется жить в стенах Тампля, всего в нескольких десятках метров от башни Марии Антуанетты, ничем не оправданный формализм городских властей не разрешит матери обмениваться с ребенком ни единым словом; даже когда она узнает, что он болен, ей не разрешат посещение больного: словно зараженной чумой, ей запретят всякие встречи с ним. Более того, она не должна беседовать со странным воспитателем дофина, с сапожником Симоном - еще одна бессмысленная жестокость. Ей запрещено передавать какие-либо сведения о ее сыне; лишенная права говорить, беспомощная мать, зная о том, что ее ребенок находится где-то здесь, рядом, не может поздороваться с ним, лишена возможности иметь с ним какое бы то ни было общение. Только чувство глубокой материнской любви осталось у нее: никакими предписаниями, никакими распоряжениями его не отнять.
Наконец - маленькое, жалкое утешение - Мария Антуанетта обнаруживает, что через единственное крошечное окошко на третьем этаже лестничной клетки можно наблюдать ту часть двора, в которой иногда играет дофин. И вот часами, несчетное число раз, дежурит у этого оконца измученная женщина, бывшая некогда королевой обширного государства, в тщетном ожидании, не удастся ли ей украдкой (охрана снисходительна) во дворе своей тюрьмы увидеть мимолетные очертания светлой тени любимого ребенка. Сын, не подозревающий, что его мать глазами, полными слез, следит за каждым его движением через зарешеченное окно, спокойно, беззаботно играет (что известно девятилетнему о его судьбе?).
Мальчик быстро, слишком быстро вошел в новый окружающий его мир, в своем веселом, до краев наполненном сегодня он забыл, чей ое ребенок, какая кровь течет в его жилах, какое имя он носит. Бойко и громко поет он, не понимая смысла слов, "Карманьолу" и "Ca ira" - песни, которым обучил его Симон с товарищами; он носит красный колпак санкюлота, и ему это доставляет удовольствие, он перекидывается шуточками с солдатами, стерегущими его мать.
Не каменной стеной - внутренне целым миром отделен теперь мальчик от нее. И тем не менее вновь и вновь сердце матери учащенно бьется, стоит лишь ей увидеть, нет, не обнять, только увидеть своего ребенка таким веселым, таким беззаботным. Какая же судьба уготована бедному мальчику? Разве Эбер, в подлые руки которого Конвент безжалостно отдал семью короля, в своем грязном листке "Папаша Дюшен" уже не написал угрожающие слова: "Бедная нация, рано или поздно этот мальчик уготовит тебе гибель; чем более потешен он сейчас, тем это опаснее. Этого гаденыша, да и сестрицу его в придачу, следовало бы высадить на необитаемом острове; любой ценой от него следует избавиться. Что значит один ребенок, когда речь идет о благе Революции?"
Что значит один ребенок? Для Эбера - немного, мать знает это. Потому-то каждый день и трепещет она, не увидав своего любимца в тюремном дворе, потому-то и дрожит она от бессильной ярости, когда у нее в камере появляется этот ее заклятый враг, человек, по совету которого у нее отняли ребенка и который совершил тем самым презреннейшее преступление против морали: выказал к побежденному ничем не оправданную жестокость. То, что революция отдала королеву в руки Эбера, этого ее Терсита*, едва ли не самая мрачная страница ее истории, которую лучше следовало бы скорее перелистать. Ибо самая высокая, самая чистая идея становится низкой и ничтожной, как только она дает мелкой личности власть совершать ее именем бесчеловечное.
***
С тех пор как смех ребенка не звенит более в зарешеченных камерах башни, в них стало темнее, время тянется дольше. Ни звука, ни сообщения извне, последние помощники исчезли, друзья недосягаемо далеко. Три одиноких челвека сидят друг против друга изо дня в день, день за днем: Мария Антуанетта, ее маленькая дочь и Мадам Елизавета; давно уже не о чем друг с другом говорить, давно уже разучились они надеяться, а возможно, и бояться также. Весна, лето, но все реже и реже спускаются они в свой маленький садик, тяжелая усталость наливает члены свинцом. В эти недели страшных испытаний что-то угасает у облике королевы. Если всмотришься в последний портрет Марии Антуанетты, сделанный в то лето неизвестным художником, в нем едва можно узнать бывшую королеву пасторалей, богиню рококо, не узнать в нем гордую, отважно борющуюся, величественную женщину, какой Мария Антуанетта была еще в Тюильри.
На этом неумелой рукой сделанном портрете женщина с вдовьей вуалью на поседевших волосах, несмотря на свои тридцать восемь лет, уже старая женщина - слишком сильно она настрадалась. Нет блеска и живости в некогда озорных глазах; вот сидит она, бесконечно усталая, с вяло опущенными руками, готовая следовать любому зову без возражений, без протеста, даже если этот зов - к гибели, к концу. Прежняя привлекательность ее облика уступает место спокойной печали, беспокойство - полному безразличию. Этот последний портрет Марии Антуанетты похож, пожалуй, на портрет настоятельницы монастыря, аббатисы, женщины, отрешенной от всех земных забот, не имеющей никаких земных желаний, живущей уже не этой, а какой-то другой, потусторонней жизнью. Ни красоты не чувствуешь в этой женщине, ни смелости, ни сил ничего, кроме великого терпеливого безразличия. Королева отреклась от престола, женщина смирилась со своей участью; усталая, утомленная матрона смотрит на мир ясными голубыми глазами, ничто не может более удивить ее или испугать.
***
И она, Мария Антуанетта, действительно не испытывает страха, когда спустя некоторое время, в два часа ночи, снова будят ее резкие удары в дверь. Что может сделать ей окружающий ее мир после того, как он отнял мужа, ребенка, возлюбленного, корону, честь, свободу? Спокойно поднимается она, одевается и впускает комиссаров. Они зачитывают декрет Конвента, в соответствии с которым вдова Капет, поскольку против нее выдвинуто обвинение, должна быть препровождена в Консьержери. Мария Антуанетта внимательно слушает и молчит. Она знает: обвинение Революционного трибунала равнозначно осуждению, а Консьержери - это покойницкая. Но она не просит, не протестует, не молит об отсрочке. Ни слова этим людям, поразившим ее своим известием среди ночи, словно убийцы. Невозмутимо дает обыскать себя, отдает все, что носит с собой. Оставляют ей лишь носовой платок и маленький флакончик с сердечными каплями. Затем ей предстоит прощание - в который раз - теперь с дочерью и золовкой. Она знает, это прощание - последнее. Но жизнь приучила ее к подобным прощаниям.
Не оборачиваясь, с высоко поднятой головой идет Мария Антуанетта к дверям камеры и быстро спускается по лестнице. Она отклоняет всякую помощь, нет, не было необходимости оставлять ей флакончик с укрепляющей эссенцией на случай, если силы откажут ей: она окрепла в несчастье. Самое тяжелое уже пережито: ничто не может быть страшнее этих последних месяцев. Впереди самое легкое - смерть. Она так спешит из этой башни ужасных воспоминаний, что возможно, слезы застилают ей глаза - забывает наклониться в калитке и сильно расшибает лоб о верхнюю перекладину. Озабоченные провожатые подбегают к ней, спрашивают, не больно ли ей. "Нет, - отвечает она спокойно, - теперь ничто не может причинить мне боль".