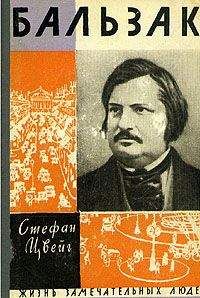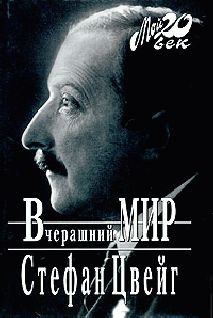Стефан Цвейг - Вчерашний мир
Тем более благословенной показалась затем Аргентина. Это была вторая Испания, ее древняя культура, оберегаемая и сохраняемая на новой, более обширной, еще не сдобренной кровью, еще не отравленной ненавистью земле. Тут было обилие продуктов, богатство и избыток, тут были бескрайние просторы, а значит, и новые ресурсы. Безграничная радость охватила меня. Разве культуры не странствуют уже тысячелетия от одной страны к другой, разве всегда, когда дерево становилось добычей топора, не спасались семена и тем самым и новые цветы, новый плод? То, что поколения создавали до нас и вокруг нас, никогда ведь не исчезало бесследно. Надо было лишь научиться мыслить крупномасштабно, мерить более значительными временными измерениями. Пора, говорил я себе, мыслить не только европейскими масштабами, но шире, не зарывать себя в отмирающем прошлом, но способствовать его возрождению. Ибо по сердечности, с которой все население нового миллионного города относилось к нашему конгрессу, я понял, что мы здесь не чужие и что вера в духовное единство, которому мы посвятили всю нашу жизнь, еще жива здесь, действует и с ней считаются; что, следовательно, в наше время новых скоростей нас не разделяет более даже океан. Новая задача встала здесь рядом со старой: более широко и смело упрочить единство, о котором мы мечтали. Если я считал Европу потерянной с того последнего момента, когда увидел приготовления к грядущей войне, то под Южным Крестом я снова начал надеяться и верить.
Не менее значительным впечатлением, не меньшим обещанием стала для меня Бразилия, эта щедро одаренная природой страна с красивейшим городом на земле, эта страна, гигантское пространство которой и сегодня еще не в состоянии измерить до конца ни железные дороги, ни шоссе, ни даже самолет. Здесь прошлое сохранялось более заботливо, чем в самой Европе, сюда еще не проникло очерствение, которое внесла первая мировая война в нравы, в дух наций. Люди здесь были более миролюбивы, более терпимы, не таким неприязненным, как у нас, было само общение между различными народами. Здесь человек еще не был отделен от человека нелепыми теориями крови, расы и происхождения, чувствовалось, что здесь можно было жить спокойно, ибо имелось то неизмеримое, предназначенное для будущего пространство, за крохотную крупицу которого в Европе государства воевали, а политики вели бесконечные дебаты. Здесь земля еще ждала человека, чтобы он ее возделал и наполнил своим присутствием. Здесь вся та цивилизация, которую создала Европа, могла успешно продолжаться и развиваться в новых и разнообразных условиях. Я заглянул, наслаждаясь зрелищем тысячелетней красоты этой новой природы, в будущее.
* * *
Но путешествия, и даже дальние - под другие звезды и в другие миры, не означали бегства от Европы и от ее тревог. Порой кажется, что природа зло мстит человеку тем, что все достижения техники, благодаря которым он подчинил себе ее сокровеннейшие силы, лишают покоя его душу. Нет более страшного наказания, чем то, что технические средства лишают нас возможности хотя бы на мгновение уйти от действительности. Люди предыдущих поколений могли в тяжелые времена бежать, уединяться; и только мы получили сомнительную привилегию - какие бы беды ни случались на нашем земном шаре, в тот же час и ту же секунду обо всем узнавать и все переживать. Как бы далеко я ни находился от Европы, ее судьба оставалась моей. Высадившись в Пернамбуку ночью, под Южным Крестом, я увидел прикрепленную газету с сообщением о бомбардировке Барселоны и гибели испанского друга, с которым несколько месяцев тому назад провел незабываемые часы. В Техасе, проносясь в пульмановском вагоне недалеко от Хьюстона, я вдруг услышал истошные крики и беснование на немецком языке: какой-то ничего не подозревавший пассажир настроил приемник на волну Германии, так что мне довелось в поезде, идущем по равнине Техаса, услышать одну из поджигательских речей Гитлера. Не было возможности бежать, ни днем, ни ночью; я вынужден был с мучительной тревогой постоянно думать о Европе, а думая о Европе - неизбежно об Австрии. Может быть, покажется мелкотравчатым патриотизмом то, что, когда опасность приняла гигантские размеры - от Китая до Эбро и Мансанарес, меня особо волновала судьба именно Австрии. Но я знал, что судьба всей Европы связана с этой маленькой страной - волею судеб моим отчим краем. Если, оглядываясь назад, пытаются выявить ошибки политики после мировой войны, то величайшей признают то, что как европейские, так и американские политики не осуществили, а исказили план Вильсона.
Его идея заключалась в том, чтобы предоставить малым нациям свободу и самостоятельность, однако он справедливо считал, что эти свобода и самостоятельность могут быть устойчивыми лишь внутри единого сверхсоюза, объединяющего крупные и малые государства. Однако, создав эту высшую организацию - подлинно всеобщий союз народов, - но реализовав лишь одну часть его программы, а именно самостоятельность малых государств, политики породили вместо спокойствия постоянную напряженность. Ибо нет ничего опаснее, чем мания величия карликов, в данном случае маленьких стран; не успели их учредить, как они стали интриговать друг против друга и спорить из-за крохотных полосок земли: Польша против Чехословакии, Венгрия против Румынии, Болгария против Сербии, а самой слабой во всех этих распрях выступала микроскопическая по сравнению со сверхмощной Германией Австрия.
Эта раздробленная и изувеченная страна, властелин которой некогда распоряжался Европой, - вынужден это повторить - была краеугольным камнем.
Я знал, что за Австрией падет и Чехословакия и Балканы станут для Гитлера легкой добычей, что нацизм вместе с Веной, благодаря ее особому положению, получит в свои жестокие руки рычаг, которым он сможет раскачать и сорвать с петель всю Европу. Лишь мы, австрийцы, знали, какая страсть, подстрекаемая затаенной обидой, гнала Гитлера в Вену, в город, который видел его в дни крайнего унижения и в который он хотел войти триумфатором. Поэтому всегда, когда после недолгого пребывания в Австрии я возвращался обратно, то на границе вздыхал с облегчением: "Пока пронесло" - и оглядывался назад словно в последний раз.
Я видел неотвратимое приближение катастрофы; сотни раз по утрам все эти годы, в то время как другие с надеждой брали в руки газету, я боялся увидеть в ней крупный заголовок: "Конец Австрии". Ах, как я обманывал сам себя, делая вид, что давно уже не связан с ее судьбой! Находясь далеко от нее, я вместе с ней ежедневно переживал ее медленную и тяжкую агонию бесконечно сильнее, чем мои оставшиеся в стране друзья, которых ввели в заблуждение патриотические демонстрации и которые ежедневно заверяли друг друга: "Франция и Англия не допустят нашего падения. А прежде всего этого не разрешит Муссолини". Они верили в лигу наций, в мирные договоры, как больные в лекарства с красивыми этикетками. Они продолжали жить беззаботно и счастливо, в то время как я, смотревший более трезво, изводил себя постоянными страхами.
Причиной моей последней поездки в Австрию тоже явилось не что иное, как волна внутреннего беспокойства, связанного с приближающейся катастрофой. Осенью 1937 года я побывал в Вене, чтобы навестить мою старую мать, больше мне там делать было нечего; никакие срочные дела не звали меня туда. Как-то в середине дня несколько недель спустя - вероятно, в конце ноября - я возвращался по Риджент-стрит домой и мимоходом купил "Ивнинг стандард". Это было в тот день, когда лорд Галифакс полетел в Берлин, чтобы впервые вступить в личные переговоры с Гитлером. В этом выпуске газеты прямо на первой странице - это и сейчас еще перед глазами - жирным шрифтом были перечислены отдельные пункты, по которым Галифакс хотел прийти к соглашению с Гитлером. Среди них - Австрия. И, пробегая по строчкам, я прочел - или мне показалось это? - предполагалось принести в жертву Австрию, ибо что иное могла означать встреча с Гитлером? Мы-то, австрийцы, знали: в этом пункте Гитлер никогда не уступит. Странное дело, это перечисление пунктов, по которым пытались договориться, появилось только в том дневном выпуске "Ивнинг стандард", а затем бесследно исчезло из вечернего выпуска этой газеты. (Позднее до меня дошли слухи, что эту информацию газете подбросило итальянское посольство, ибо в 1937 году Италия ничего так не опасалась, как сговора Германии и Англии за ее спиной.) Не берусь судить, какова на самом деле доля правды в этой - большинством, вероятно, вообще оставленной без внимания - заметке одного из выпусков "Ивнинг стандард". Я знаю лишь, как беспредельно лично я испугался при мысли, что между Гитлером и Англией уже ведутся переговоры об Австрии; я не стыжусь признаться, что газета дрожала в моих руках. Вымышленное или действительное, сообщение взволновало меня, как никакое другое за последние годы, ибо я знал: если оно правдиво хотя бы на йоту, то это станет началом конца, из стены выпадет камень, а вслед за этим обрушится и сама стена. Я тотчас повернул обратно и вскочил в первый автобус с надписью "Вокзал Виктория" и поехал в "Эмпайр эруэйз", чтобы узнать, нет ли билета на следующее утро. Я хотел еще раз увидеть мою старую мать, моих родных, мою родину. Дело случая, но билет я достал, наскоро собрал чемодан и полетел в Вену.