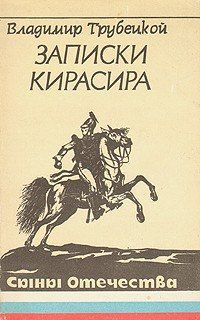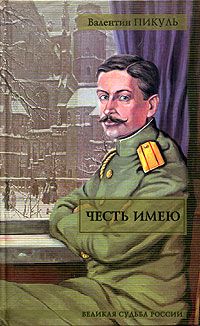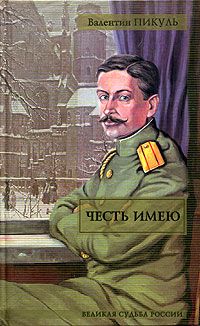Валентина Немова - Лишний вес
С тех пор как Ненашев стал лауреатом, интерес к его творчеству возрос и у читателей, и у издателей. "Литературная" газета попросила его написать воспоминания о войне. И он написал статью "Последний осколок". У меня сохранилась вырезка из газеты с этой статьей.
И.С. Ненашев "Последний осколок".
Подзаголовок: Так возникают сюжеты.
Эту публикацию переписываю, делая сокращения.
Помню отчетливо: кухня артдивизиона, вкопанная в косогор, а я, согнувшись в три погибели, под ней лежу и плачу. Повар заглядывает под кухню и хохочет. Мой друг Слава Ш. с досадой и сочувствием спрашивает: "Ну, чего ты орешь-то? Чего? Все уже". Гимнастерка во мне разделана в распашонку, булавкой на груди схвачена. Перебитая рука толсто примотана к двум ольховым палками и за шею подвешена. Бинты промокли, гимнастерка, штаны, нижняя рубаха и даже сапоги в кровище. Утирая слезы, я и лицо в кровь увозил. Друг машину попутную ждет, чтобы меня "оттартать" в санроту, и досадует: "Не трись ты рукой-то, не трись!"
Больно? Конечно, больно. Рубануло так, что и кисть руки назад передом обернулась. Однако реву-то я не только от боли, но от непонятной обиды — недовоевал вот, а так хотелось до этого самого "логова" добраться; от ребят отрываюсь, от семьи, можно сказать. Как быть без них? И вообще все как-то не так, несправедливо, неладно.
… Сзади горели нефтепромыслы в районе польского города Красно. Наши части углубились в горы по направлению Чехословакии. Шли упорные бои. Было сухо, душно и очень напряженно. В тот же день мы окапывались на склоне горы, обочь которой бежал ручеек, и на оподоле рассыпались дома деревушки. Нас все время обстреливали. Я копал ячейку для себя, и хотя землю копать тяжело и я это дело не любил, но все же копал, помня заповедь: чем глубже в землю, тем дольше жизнь. Вот и рубил я кайлом каменистый склон, подчищал лопатой щель, подождал, пока осколки пролетят надо мной, и, вставши, потянулся к трубке телефона, чтобы проверить связь. И в это время зафурчал рябчиком надо мной осколок. На излете, да как саданет под правую лопатку, ровно молотком. Боль оглушительная, тупая, такой при ранении не бывает. При ранении сквозняком вроде бы прошьет все тело, в голове зазвенит, и сразу горячо и тошнотно сделается — потекла кровушка. На этот раз лишь просекло гимнастерку, поцарапало кожу, под лопаткой картофелиной набух синяк. Копать не могу, руку едва поднимаю, а тут еще и еду несут, и солнце печет. Что тебе в июле! За полдень все же приволокли термос размазни — горошницу с белыми нитями тушенки, которая по замыслу повара должна была зваться супом.
Только мы есть расположились — бомбежка! Контратака. Час от часу не легче. Согнали пехоту с высоты. В окопы, нами вырытые, народу всякого набилось, а такое скопище непременно бомбить и обстреливать станут. Опять контратака. Стрельба поднялась, крики. Наши орудия лупят почти на пределе. Своими же осколками может посечь. Отбили и эту контратаку. Есть хочется, спина болит, плечо и рука "остамели". А тут сново-здорово: "Фольке-Вульфы" прилетели, по две бомбы вуганули и давай из пулеметов нас поливать. Но и нашим тоже все надоело — палят из всех ячеек и щелей кто во что горазд. Неподалеку, слышу, даже из пистолета кто-то щелкает. И я со зла карабин свое сгреб, хоть и знал, что "Фокке-Вульф" из такого оружия сбить — все равно что попытаться в Байкале одну-единственную, будь она там, кильку выудить. Палю с левого плеча, в раж вошел. Глядь: "Фокке-Вульфы" ходу дают. Мне блазнится, что я их спугнул. "А-а-а, стервы! А-а-а, коршуны, получайте!" В это время как ахнуло! Ложе карабина в щепки… А сам я — не то на том свете, не то на этом лежу, дым нюхаю. Замля на меня сыплется, заживо засыпает. Страшно сделалось. Как выскочил из полуразвороченной щели, как к ребятам рванул, не помню.
"Свалился, — рассказывает уже в Ленинграде мой друг, — все в тот же недокопанный блиндаж. Глядим: рука навыворот, бьется, кричит: "Самолет! Где самолет? Я ж его!.."
Совсем недавно ночью зачесалась рука, та самая. Даже не зачесалась, заныла, зазудела. Начал я во сне царапать ее. Слышу: под пальцами твердо. Из далеких времен, из глубины тела, обкатанный кровью, вылезал осколок с привычной уже болью. Совсем маленький, сделавшийся кругленьким, как картечина, он натянул кожу и остановился. На раз чешется, значит, скоро выйдет. Думаю, что это уже последний. Дай Бог, чтобы последний осколок ушел из меня, изо всех нас, бывших воинов, и никогда ни в чьем теле уже не бывал…
Написана была эта заметка еще тогда, когда Ненашев жил на Волге. Через некоторое время он уехал еще дальше и наши с ним пути окончательно разошлись. Теперь у меня не было покровителя из писателей, но писать я не бросила. Сочинила два новых рассказа: "Ни слова о том" и "Любовь про запас". Первый — о трудном подростке, который учился у меня в школе рабочей молодежи, второй — о легкомысленном но очень красивом юноше, в которого угораздило меня влюбиться, за которого я чуть было замуж не вышла, надеясь исправить его. Занималась я перевоспитанием этого паренька в студенческие годы. И, кажется, добилась положительного результата. НО когда он, влюбившись в меня уже всерьез, сделал мне предложение, я его отвергла.
Мне, наверное, на роду было написано отвергать своих поклонников одного за другим. Я искала человека надежного, такого, каким был мой отец, который, если я выйду за него замуж, не будет мне изменять. Но мой отец, наверное, был музейной редкостью.
Вы спросите: как могла случиться, что я, такая требовательная, разборчивая, вручила свою судьбу парню, который впоследствии предал меня? Отвечаю: он оказался самым хитрым из всех ребят, кто ухаживал за мной. Сумел притвориться паинькой.
Провести меня удалось Михаилу благодаря тому, что, пока у нас были чисто дружеские отношения, жили мы с ним в разных городах: я — в Магнитогорске, где работала, он в Ленинграде, где учился. Но поскольку я верю в Бога, в судьбу, я убеждена, что он был послан мне свыше, что я должна была стать его супругой, пережить все то, что по его вине со мной произошло, а потом написать об этом. Писать, писать, писать — это было у меня как мания. И в радости, и в горе, особенно в горе не оставляло меня это желание.
Рассказ, забракованный писателями областного центра, я доработала. Долго мучилась с ним, пока не поняла: исправлять в нем, переделывать ничего не надо. Надо просто разделить его на три части. И разделила. И вот что получилось у меня в результате:
1. Одноактная пьеса политического характера. В нее вошли все споры между сторонниками социализма и их противниками (сразу замечу: обсуждать на страницах художественных произведений общественный строй СССР в те годы, до перестройки, было запрещено).
2. Вполне советский, но с подтекстом, рассказ о воспитании детей в семье, названный мною так: "Рядом с добрыми".
3. Сцена из личной жизни главной героини, объединяющей эти три части в единое целое.
Оставшись довольной тем, что у меня вышло, решила я поделиться своей радостью с человеком, который и предсказывал мне при обсуждении этого произведения, что лет через десять, отточив мастерство, я сумею эту интересную по содержанию вещь сделать "удобоваримой" во всех отношениях. Я написала письмо Ненашеву, в котором, напомнив писателю о себе, намекнула, что хотела бы выслать ему для рецензирования отрывок из произведения, над которым работала много лет и наконец закончила. Но Иван Семенович не ответил на мое послание.
Я решила, что, возможно, он его не получил. Набравшись смелости, отнесла я одну часть своего труда (рассказ "Рядом с добрыми") в союз писателей областного центра. Секретарем областного отделения в то время был один прозаик из молодых, некто Ласточкин (фамилия вымышленная), "протеже" Ненашева, так аттестовывала его Анна Александровна. По ее словам, этот, можно сказать, начинающий писатель время от времени ездит (по вызову Ивана Семеновича) в ту деревню, где теперь обитал он, гостил у него подолгу, набирался опыта и, главное, получал указания, как руководить писателями области, кого поощрять, а кого… и не очень.
Когда во второй раз я явилась в союз, чтобы забрать свою рукопись, этот ставленник "лучшего в стране стилиста", возвращая мне ее, безапелляционно заявил:
— Это не рассказ, — и не прибавил к этим трем словам больше ничего.
Боюсь, именно Ненашев велел ему, возможно, по телефону разговаривая с ним, а возможно, давая совет в письме, "не церемониться со мной", если я пожалую в союз. Ведь я дважды уже не угодила "уставшему от многолюдства" авторитету. Первый раз, когда дала ему от ворот поворот, а во второй, когда, позвонив ему в город на Волге, не удосужилась исправить допущенную мною ошибку — не сказала того, что хотел мой бывший друг от меня услышать. Без сомнения, это "заслуга" Ненашева, что Ласточкин, абсолютно ничего собой не представляющий, вдруг так нагло повел себя со мной. В противном случае разве посмел бы он хамить мне, зная, что совсем недавно опекающий теперь его лауреат Государственной премии опекал меня. В течение трех лет, пока жила я в областном центре, держал меня под своим крылышком: помогал печататься, приглашал на зеседания писателей области, хотя я членом союза не была. Все это видели и считались с этим коллеги Ивана Семеновича и должны были сообщить Ласточкину и напомнить, если он забыл, в каких отношениях мы с Иваном Семеновичем были. Одним словом, Ласточкин должен был знать, что мы с Ненашевым были дружны. О ссоре же нашей, о том, что мы с ним перестали общаться, мог узнать лишь от него самого. Потому что мы с ним фактически и не ссорились. Просто разошлись, что называется, как в море корабли. А если Иван Семенович в одну из их встреч с Ласточкиным рассказал ему об этом, то этого было достаточно, чтобы настроить нового секретаря союза против меня. И его, и других писателей области, которые продолжали на меня злиться, что удалось мне однажды обскакать их. Продолжали, повторю, злиться и не скрывали этого. Никто из них не вступился за меня, когда Ласточкин мне нахамил. Никто не предложил устроить обсуждение отвергнутого секретарем рассказа.