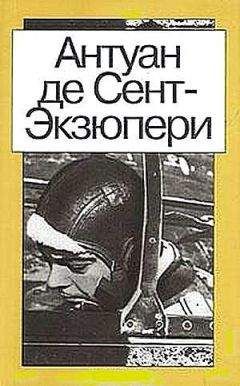Валентина Немова - Любить всю жизнь лишь одного
Женившись на девушке из бедной семьи, он привел в дом еще одну работницу. Хозяйство было огромное, но справлялись сами, не нанимали рабочих со стороны, не эксплуатировали односельчан. Тем не менее, в тридцатом году, во время коллективизации, дед был объявлен кулаком и, по чьему-то злому умыслу, раскулачен. Если бы от его состояния хоть что-то перешло к нашему отцу, мы, Русановы, были бы богатыми. И питались бы не хуже Мудрецовых, и не была бы я худой и бледной, как после болезни, и не выглядела бы я некрасивой.
Лишившись своего капитала, не стал наш дед хлопотать, чтобы ему вернули его имущество. Он понимал, что это лишь навредит его семье, усугубит трудности. Спасая свои головы, дед и отец бежали из деревни в город, который только начал строиться, где была большая нужда в рабочей силе. Снова стали трудиться, но уже не на себя, а на государство. После всего пережитого они, безусловно, затаили злобу на советскую власть. Не иначе, как "савоськина", ее не называли. Но не вредили ей никогда. Наоборот, работали, не жалея своих сил, особенно отец, очень добросовестный по натуре человек. Но не было у него образования, не было стремления подниматься вверх по служебной лестнице ради того, чтобы "получать" больше. Он боялся, что, продвинувшись, отдалится от жены. Этого ему очень не хотелось, посему и приходится ему довольствоваться малым, а нам, женскому "полку", оставалось только надеяться на лучшее будущее и смеяться даже тогда, когда хочется плакать…
Тонины родители переехали к нам в город не из деревни. Это я точно знаю. Следовательно, не переживали потрясений, подобных тем, которые выпали на долю моих родичей. Но глядя на нее, какой она была, когда мы учились вместе с нею в восьмом классе, можно было подумать, что именно ее предков до нитки обобрали в свое время узаконенным способом. И она, Мудрецова — младшая, до сих пор не перестает мучиться из-за этого. Она была такая скучная, всегда не в настроении, и мне очень хотелось ее растормошить, что я и старалась делать, а она не поддавалась мне поначалу, злилась на меня и однажды, когда я чересчур уж разошлась, пытаясь заразить ее своим весельем, влепила мне пощечину. Не помню даже, вдвоем мы с нею в этот момент были или еще кто-то находился рядом (случилось это в школе, во время перемены, сидели мы в классе, за одной партой). Я, естественно, вскипела в душе. Могла бы, конечно, дать ей сдачу, двинуть хорошенько, чтобы на пол свалилась и впредь не задиралась. Мы были обе еще в том возрасте, когда не только мальчишки, но и девчонки друг с дружкой дерутся. Но она вдруг, лишь только я поднялась, еще не зная, что буду дальше делать, как стукнется головой о крышку парты и давай рыдать! Сама же первая полезла, сама же истерику закатила, когда ее и пальчиком никто не тронул, нюня настоящая! Мне даже руки не захотелось пачкать об эту слюнтяйку. И я ответила проштрафившейся отличнице лишь тем, что, собрав свои вещички, "переселилась" на другое, свободное место.
Однако долго дуться на Тоню-тихоню, отходчивая по натуре, я не смогла. В глубине души я чувствовала, что сама виновата в случившемся. Напросилась на оплеуху. Не следовало "заводить" отличницу, раз уж она такая щепетильная и нервная. Осознав свою неправоту, я простила Мудрецову, вернулась на прежнее место, благо, что оно еще не было занято. Как это ни странно, желающих сидеть за одной партой с лучшей ученицей у нас в классе было немного. Мы помирились с Тоней и снова стали общаться: ходить друг к другу домой, поверять свои тайны.
Через какое-то время Антонина дала мне понять, почему она такая неуравновешенная. Она и ее мама живут в постоянном страхе, что отец бросит семью. Он, потеряв всякий стыд, таскается по женским общежитиям и сватается то к одной, то к другой молодой девушке. Дома из-за этого каждый день шум, брань. Хоть беги, куда глаза глядят. Слушая Тонины оправдания, я думала о своем.
Несмотря на "нехватки" и "недостатки", мои родители ладили друг с другом. За все годы, прожитые вместе, поссорились они только один раз. Когда были молодыми, а я совсем маленькой. Года два или три мне было, но я этот случай помню. Врезалось мне в память, что они, препираясь, говорили. Оба одно и то же: "ваши" и "наши". Позднее я догадалась, что повздорили они из-за родственников, и маминых, и отцовых.
Родным людям с той и другой стороны порой удавалось нарушить покой в нашем доме. Но посторонним — никогда. Были, конечно, желающие увести моего отца из семьи, делались попытки добиться этого. Но заканчивались они ничем.
Вот такой еще запомнился мне эпизод из нашей семейной жизни. К тому времени я уже немного подросла. Мне было больше пяти лет, маме — около тридцати. Жили мы тогда в бараке. Пришли к нам однажды две женщины, старая и молодая. Отца дома не было, только мама и я. Надо сказать, что моя мама в молодости была очень красивой, настоящая русская красавица. О таких говорят: в любой одежде хороша.
Старая женщина долго ее рассматривала, устроившись на шаткой табуретке, затем спросила:
— Наташа, а как вы с Тарасом живете?
— Хорошо, как обычно.
— А то ведь дочка моя в него влюбилась, — продолжала старуха.
— Ну и пусть себе любит, кто же ей запретит?
— А я думала, может, вы друг другу приелись?
— Пока еще нет, — нисколько не сердясь на гостью, терпеливо отвечала мама на ее вопросы.
— А деток сколько у вас? — не отставала от мамы нахальная бабка.
— Трое.
— Еще планируете?
— Как Бог даст.
— Ну тогда ладно, живите, — разрешила мать девицы, понапрасну влюбившейся в семейного человека, и поднялась с табурета.
Молодая женщина, пока ее мать донимала своими расспросами мою маму, не произнесла ни слова. Сидела напротив мамы и нагло, нисколько не смущаясь, смотрела ей в лицо, словно все то, что при ней говорилось, не имело к ней абсолютно никакого отношения, словно была это самая обыкновенная, о пустяках, беседа.
Происшествие это, надо полагать, мама обсудила с нашим отцом (когда нас, их трех детей, дома не было). И, как мне кажется, ни в чем дурном не упрекнула, не заподозрила мужа в измене. Она же знала, что он не просто любит ее, а чуть ли не без памяти, и не придала никакого значения бессовестной выходке двух беспардонных баб.
Поженились мои родители в 1927 году, когда маме было семнадцать, а отцу двадцать лет. Прожили вместе сорок пять. Отец часто болел, ездил в санатории лечиться, и там к нему приставали женщины-докторши. Но он ни разу жене не изменил. Это нам, его дочерям, доподлинно известно.
Именно это: верность, преданность моих родителей друг другу, заботливость мамы и добродушие отца — и создавали в нашем доме такую непринужденную, радостную атмосферу, что хотелось дурачиться, балагурить…
Была еще одна причина, почему я выросла компанейской, а Тоня — неконтактной. Ее родители оба работали. И, судя по тому, что, характеризуя меня, написала она о себе (долгое время я была одна), уходя на работу, они запрещали ей выходить во двор, вернувшись из школы. Оберегали от дурного влияния улицы. И какой же она могла вырасти, если в детстве не было у нее возможности играть со своими сверстниками? Разумеется, она стала их бояться, не только мальчишек, но и девчонок. Они, как мне кажется, колотили ее частенько за то, что она чурается их. Должно быть, она запомнила это на всю жизнь. И сделалась дикой.
Моя мама не работала. Никогда из дома надолго не отлучалась. У нее была возможность присматривать за нами, своими дочерьми, когда мы бегали вокруг барака. Достаточно было в окошко поглядеть или выйти на улицу. Мне, как и моим сестрам, было разрешено, когда мы были детьми, находиться вне дома сколько душе угодно. И в какие только игры мы не играли! И в прятки, и в догонялки, и в лапту. Мяч и скакалку лет до двенадцати я вообще из рук не выпускала. Соревнуясь с ребятами из нашего барака, прыгала выше всех, бегала быстрее всех. Но больше всего нравилось мне играть в куклы, которые приходилось делать собственноручно из тряпок, так как фабричные игрушки для меня и двух моих сестер (третья сестра, четвертая дочь у мамы, родилась уже в послевоенное время) покупать нам было не на что.
Любимой игрой всех ребятишек из нашего барака был кукольный театр. Мы собирали на дорогах красивые стеклышки, камешки, наклеивали на картон, который использовали как декорацию. Потом ставили сцены из детских книг. Настоящие спектакли показывали взрослым, нашим родителям. Вот уж они восхищались нами, своими детьми. Уверена, посещая настоящий театр, профессиональным актерам так не хлопали, как нам, доморощенным. Нет, не всегда улица оказывает на детей и подростков негативное влияние.
Не запрещали мне мои родители "бегать" и во время войны. Общение с простыми людьми в эти суровые годы всего благотворнее, как мне кажется, повлияло на мой характер. Тоня такого общения, скорее всего, была лишена, что, само собой, тоже навредило ей. Впоследствии о военных годах я написала маленькую поэму. Помещаю ее здесь.