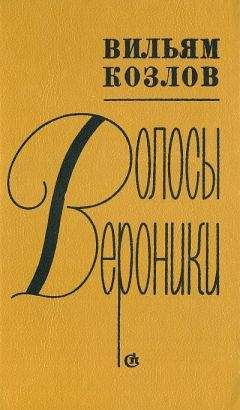Уолдо Фрэнк - Смерть и рождение Дэвида Маркэнда
- Да, правда.
- Ты это подтверждаешь? - Она остановилась и взглянула ему в лицо. Почему же ты не хочешь перестать? Дай я помогу тебе. Останься со мной.
- Где?
- Причиняй мне боль, если это тебе необходимо. Но я хочу, чтоб ты видел меня одну. Останься! Останемся вдвоем!
- Разве я говорил, что хочу уйти от тебя?
- Я люблю тебя. Мне нужно, чтоб ты думал обо мне одной. Поддержи меня.
- Как я могу поддержать тебя, если у меня нет твердой почвы под ногами?
- У нас будет почва - мы сами, наша любовь... я ведь говорю тебе.
- А я говорю тебе, что и ты... катишься вниз.
Он знал, что она говорит правду, свою правду. Он один, той любовью, которой она требовала, мог бы спасти ее. Но он не в силах был спасти ее. Потому что в любви, которой она требовала, она была абсолютна и одна, а он не мог любить ее одну, оторванную от мира, она не существовала... для него... одна. Только солгав, он мог бы спасти ее. Но он не мог солгать. Он не знал истины, это так. Но он не хотел лжи. Вот почему он скитался... жестокий, несущий боль. Он не мог лгать. О, если б узнать, в чем истина!
В комнате с голыми стенами, на третьем этаже Замка, жила одиноко Лида Шарон, корпела над толстыми книгами, заваривала горький чай и писала восторженные письма "товарищам" в Нью-Йорк. Этой девушке было двадцать семь лет, ее волосы были жестки и кожа лоснилась; руки и ноги ее были покрыты темными волосками, и она всегда носила свободные блузы, которые делали ее похожей на медведя; но глаза ее смотрели проникновенно и нежно. Она была дочерью старозаветного еврея из маленького городка в Миссисипи, который по целым дням сидел, поджав ноги на стуле, и чинил дамское платье. Эмили Болтон нашла ее в Нью-Йорке, где она кончала педагогическое училище и зарабатывала свой хлеб и кров как прислуга в еврейской семье, лишь немного менее бедной, чем она сама. Эмили Болтон считала, что лучшей учительницы у нее еще никогда не было, и она не ошибалась.
Лида никакого внимания не обращала на Теодору и Маркэнда. Сталкиваясь с ними в парке, она с подчеркнутой поспешностью проходила мимо; а когда они однажды заглянули в Замок, думая, что она скучает в своем одиночестве, она захлопнула толстую книгу и попыталась быть вежливой. Лида презирала Маркэнда, "типичного либерала", как она его окрестила. Теодора вызывала в ней сожаление и не нравилась ей; но она нравилась Тед.
Как-то вечером Тед выскользнула из павильона и пошла в Замок. Лида Шарон лежала на животе в неосвещенной большой зале на полу перед камином и глядела в огонь. Она вскочила, как потревоженный зверь.
- Я вам помешала? - сказала Тед.
Лида не пыталась возражать.
- Что вам нужно?
- Господи, дорогая моя, ничего особенного! Мне просто пришло в голову поболтать с вами.
- Хорошо, - сказала Лида и снова опустилась на пол, глядя в огонь.
- Вы плакали, - сказала Теодора, подходя ближе.
- Какое вам дело?
- Лида, почему вы так не любите меня?
- А вы не знаете?
- Ума не приложу. Разве только это личная антипатия. Я вам никогда не делала ничего дурного, я очень ценю вас и вашу работу с детьми. Я не раз писала об этом Эмили.
- Мне не нужно ваше покровительство, Теодора Ленк.
- Что за нелепость! Как я могу покровительствовать вам? Я знаю, что вы в десять раз больше меня понимаете в педагогике...
- Все равно. Дело в ваших деньгах.
- Из-за них вы меня не любите?
- Я ненавижу ваш класс!
- И вам не стыдно?
- Стыдно? - Лида была просто потрясена. - Стыдно ненавидеть класс, который живет тем, что высасывает жизнь из народа?
- Но в Америке нет классов.
- Нет? А ведь вы живете в Чикаго, где пролетариат эксплуатируют больше, чем где-либо. Как это характерно для вашего класса - отрицать существование классов вообще! Вам так спокойнее, не правда ли? Легче забавляться прекрасными словами Французской революции - "свобода, равенство, братство".
- Но я ведь вам говорю, что в Америке нет классов. Мой отец начал жизнь разносчиком, с коробом на плечах. Наверно, он ничем не отличался тогда от вашего.
- У него хватило хитрости перейти в другой класс.
- Мой отец не хитрил.
- Ах, - усмехнулась Лида, - вероятно, он разбогател, потому что у него великая душа, как у Иисуса, и великий ум, как у Маркса.
- Во всяком случае, - кротко возразила Тед, - вы мне не доказали, что в Америке есть классы.
- Зато вы доказали, что их нет, тем, что ваш отец был достаточно ловок и достаточно беспринципен, чтобы переменить класс. Если вы переменили ботинки, это вполне достаточное доказательство, что ботинок вообще не существует в природе.
- Вы меня ненавидите, правда? - Тед улыбнулась.
- Я вам сказала: я ненавижу ваш класс, - а это начало прозрения.
В дверях стоял Маркэнд; он тихо вошел и сел поодаль от камина и обеих женщин.
Его присутствие изменило настроение Тед; девушка назвала ее отца "ловким и беспринципным". Теперь это не давало ей покоя, теперь она должна была взять верх над Лидой.
- Если вы так ненавидите нас, зачем же вы работаете в школе? Эмили гораздо большая аристократка, чем я. И большинство учеников - дети аристократии.
- Скажите лучше - буржуазии... Вы не аристократы.
- Отлично. Зачем же вам, если вы нас так ненавидите, работать в буржуазной школе?
- Чтобы учиться, конечно, - сказала Лида. - Вы - правящий класс, только у вас и была возможность развить свой ум, создать культуру. Я хочу взять от вас все, что у вас есть. И когда придет пора, я употреблю это против вас.
Ее слова прозвучали так зловеще, что Тед в замешательстве не сумела ей ответить.
- Но вы не думайте, - сказала Лида, - я не забываю о том, что такое эта школа. Это место, где правящий класс играет в справедливость, чтобы прикрыть свои преступленья; где он может показывать своим отпрыскам красоту, чтобы прикрыть собственное безобразие. И весь анархизм Сайреса Ленни и Эмили Болтон тоже только наркотик для буржуазии, которая хочет удобств и покоя. Они говорят о свободе, но они позаботились тщательно закупорить эту свободу в школе, а не идут бороться за нее на фабрики и в шахты. Они позаботились, чтобы нигде не упоминалось о классовой борьбе, без которой "свобода" и "справедливость" - пустые слова.
Маркэнд отозвался со своего места у двери:
- Может быть, вы и правы. Но зачем такое озлобление? Ведь Тед не виновата, что родилась в буржуазной среде. И вы сами признали, что буржуазная школа приносит вам пользу.
- Я знаю, - сказала Лида торжественно и спокойно, - Маркс тоже был буржуа. У буржуазии есть своя миссия. Она порождает идеи, которые приведут к ее уничтожению.
- К ее спасению, вы хотите сказать, - возразила Тед.
- Я хочу сказать то, что сказала! - вспыхнула Лида.
Тед все более вызывающе снова бросилась в наступление:
- Возьмите, например, наших школьников. Почти у всех родители принадлежат к верхушке общества. Не все богаты, конечно, но им не приходится рыть канавы, или копать уголь, или латать брюки, чтобы заработать на жизнь. И дети их, унаследовав по законам среды и крови высшие свойства родителей, вырастут, чтобы сделать мир надежным для себя и себе подобных, чтобы они могли продолжать жить в красоте и покое.
- Ну, конечно! А массы будут томиться в рабстве и умирать, чтобы прокормить их.
- Розы, - улыбнулась Тед, - нуждаются в удобрении.
В отблеске огня Маркэнд увидел, как побледнела Лида.
- То есть вы хотите сказать, что праздные классы - это розы? А рабочий люд... - Девушке пришлось остановиться. - Вы сами - из тех роз, для которых все человечество должно стать вонючим навозом. Вы цветете. И вы насквозь гнилая. От вас разит гнилью.
- Не только розам нужно удобрение, - сдержавшись, продолжала Тед, - но и нам, людям, для того чтобы жить, нужно убивать некоторых животных.
Лида вскочила на ноги.
- Вот в этом я согласна с вами. Нам, людям, нужно убивать, чтобы жить.
Женщины стояли лицом к лицу в отблесках огня. Вдруг у Лиды брызнули слезы. Она отвернулась.
- Я иду спать, - холодно сказала Тед и направилась к двери, где все еще сидел Маркэнд. - Идем, Дэвид.
Он встал, не замечая ее, и подошел к Лиде. Она стояла у огня, закрыв лицо руками. Он коснулся ее волос.
- Не будем сердиться, - сказал он. - Произошла... скажем, произошла вспышка классовой войны. Я, правда, не очень осведомлен, но мне кажется, что классовую войну не ведут против отдельных личностей. Не так ли?
Лида отняла от лица руки и повернулась к Маркэнду; вместе они обернулись к двери, ища Тед. Но она уже исчезла.
Теодора становилась иной. Она больше не заискивала перед Маркэндом, не старалась опережать его желания. Он чувствовал холод, почти пустоту, как будто ее вовсе не было рядом. Она ушла в себя. Ни горьких слов, ни ласковых слов... скоро вовсе не останется слов.
Но в сердце ее оставалась горечь. Ей было холодно, тоскливо, и в этом была его вина. Что ей до страсти, голой страсти, воплощенной в нем или в ней? Она требовала все, но всего не было, и то, что было, обращалось в ничто; всего не было, и, чем более нежным, ласковым, чутким он становился, тем больнее было ощущение, что он ничего не сможет ей дать. Она осталась наедине со своей волей полностью обладать им, полностью быть им любимой. И ее воля, не находившая удовлетворения, обратилась на нее самое; ее воля была холодна, была воплощением одиночества и терзала ее.