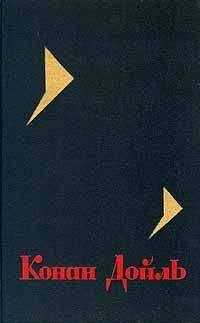Геннадий Гор - Факультет чудаков
Щепетильников выдержал допрос совершенно спокойно. Вины своей не отрицал, а на вопрос о сообщниках пожал плечами:
— За себя все отвечу, а за других — не знаю.
Поглядев на Максима, прибавил:
— Русский вы человек, а против своих идете.
И покачал укоризненно головой.
После допроса Максим посовещался со своим помощником. Он поручил ему в самом срочном порядке навести справки о коммунисте или бывшем коммунисте Михаиле Щеголеве.
Помощник любил поговорить. Намолчавшись во время допроса, он сейчас дал волю языку.
— Экономическая контрреволюция, — с удовольствием выговаривая эти слова, заявил он и, тыча указательным пальцем левой руки в стол, продолжал: — Беспартийные все контрабандисты. Только боятся. А дай им волю — весь Париж через границу перетащат. А если наш коммунист сюда ввязался, так его, сукина сына, уничтожить надо. Да.
И он поглядел на Максима так, как будто тот торговал духами «Коти». Максим знал склонность своего помощника к пышной риторике и за краткое время работы в Ленинграде уже привык к его речам, как к его кожанке. Он знал также, что исполнительность и аккуратность этого ритора — необыкновенны. Он уверен был, что не позже завтрашнего утра получит подробнейшую справку о Михаиле Щеголеве.
А помощник ораторствовал, шагая по кабинету:
— Какая разница между нами и этими людьми? Та, что мы сознательно строим счастливое будущее человечества. А для них нет будущего — у них нет веры. Они думают только о себе, они только свое будущее и умеют и хотят строить. Жалкие, тупоголовые мещане!
Бас помощника величественно гремел, руки ходили по воздуху, закрепляя анафему всем неверующим. Максим не выдержал и усмехнулся: сходство помощника с дьяконом поразило его. Но в то же время он подумал, что именно эти мысли, сейчас высказанные помощником, не раз посещали и его. Именно эти мысли промелькнули в его мозгу тогда, например, когда Масютин усомнился в том, что будет «впоследствии».
Помощник обиделся и замолк. Но ненадолго.
— Напрасно ты смеешься, Максим, — продолжал он. — Если я сказал, что все беспартийные — контрабандисты, то, может быть, я и передернул. Я на этом не настаиваю. Но нельзя смеяться над классовой борьбой. Особенно теперь, когда борьба ушла вглубь, в быт, и бурлит там, вихрями вырываясь на поверхность.
Помощник снова увлекся. Он окончательно угомонился только тогда, когда Максим, взяв портфель и шапку, протянул ему руку. Тут деловое настроение вернулось к нему. Он пожал руку Максиму и проговорил:
— Будьте спокойны. Все будет сделано. Я уже знаю, что это за Щеголев. Должно быть, тот и есть. Словим.
Максим пошел домой окольным путем. Свернул влево по Казанской улице; пройдя скверик перед Казанским собором, двинулся вправо по проспекту. Он вел свой велосипед около тротуара, не желая садиться на него: ему хотелось погулять, потолкаться в вечерней толпе. В людской гуще он всегда чувствовал себя прекрасно. Одиночества не любил.
Люди радостно толкались перед кино, перед витринами магазинов, шумели, ругались, смеялись, сдвигались с места и текли в толпе.
Они были так довольны, словно четыре года тому назад не валялись на этом самом проспекте, у тротуара, обглоданные собаками лошадиные туши.
Максим остановился перед витриной кино. Проглядел выставленные кадры. Потом пошел дальше и наступил на ногу встречному пешеходу, черному человеку в синей тройке. Человек резко оттолкнул Максима:
— Разиня!
Максим пожал плечами.
— Извиняюсь.
Он не знал, что извинился перед Михаилом Щеголевым. И Миша не подозревал, что назвал разиней следователя, который искал его.
Максим сел на велосипед и, свернув в одну из боковых улиц, покатил домой.
XIСлегка подавшись вперед и не отпуская рук от руля, Максим гнал велосипед вдоль тротуара по проспекту. Но вот он перестал нажимать педали и, проехав метров пять на свободном колесе, занес правую ногу над седлом и соскочил наземь. Телом поддерживая велосипед, Максим снял фуражку, провел рукой по зачесанным назад волосам (волосы были светлые, и седина в висках мало заметна), потом вынул из кармана штанов платок и отер им слегка запотевшее лицо. У него полные, тщательно выбритые щеки, крупный нос, широкий выпуклый лоб и толстые губы. Толстовка свободно охватывала его широкое туловище, черные штаны были чуть поддернуты и прихвачены над ботинками.
Максим взял у мальчика, выкликавшего на углу последние известия, вечернюю газету, сунул ее в карман, сел на машину и покатил дальше.
Прямая линия Международного проспекта, рождаясь в центре города, в толчее и шуме, пересекает Фонтанку и Обводный канал и мчится дальше на юг, за Путиловской веткой превращаясь в пустынное Московское шоссе. По линии этого проспекта, за Обводным каналом, начинаются места, неизвестные жителю центрального района. Человек может хоть двадцать лет жить на каком-нибудь Загородном проспекте и не знать, что за несколько остановок трамвая от него, меж скотобойней и Утилизационным заводом, есть, например, Альбуминная улица, упирающаяся одним концом в Международный проспект чуть севернее Новодевичьего монастыря, а другим — в Соединительную железную дорогу.
Но роты, на которых жил Максим, известны всякому — они не за Обводным каналом. Максим снимал комнату в семиэтажной серой громадине на углу Международного проспекта и Пятой роты, которая зовется теперь Пятой Красноармейской улицей. Каждый этаж этого дома разделен не на квартиры, а на комнаты, двери которых выходят в длинные гулкие коридоры.
Двуглазый трамвай гудел, мчась от Лермонтовского проспекта.
Тяжелый грузовик скучал невдалеке от тротуара. Шофера при машине не было: он забрался в гущу людей, любопытствующих перед открытым окном в первом этаже одного из домов. Милиционер уныло поглядывал на сбившуюся у окна кучу, все еще надеясь на то, что она сама себя ликвидирует. Но, услышав призывный свист, медленно двинулся прекращать возникающий скандал. Максим пошел вслед за ним. Но скандала никакого не было. Был попугай. Он свистел в клетке, на подоконнике, а люди, глядя на попугая, бессмысленно улыбались.
Птица была убрана, и милиционеру стало еще скучнее прежнего.
Максим вкатил велосипед в вестибюль, поднял его, поддерживая черную раму правым плечом, внес на четвертый этаж. Там поставил велосипед на каменные плиты коридора и повел к своей комнате.
Комната Максима была необычно для этого дома просторна, чиста и полна воздуха. Двери на балкон были открыты, окна (их было два) — тоже. На большом письменном столе стопками лежали книги и папки с бумагами. Над столом — барельеф с изображением Ленина. У двери справа — кровать.
Максим приставил велосипед к стене. Потом нагнулся: когда он отворял дверь, на пол упало не замеченное им вначале, сунутое почтальоном в щель письмо. На конверте стоял штемпель Архангельска, почерк — Тани.
Таня писала о смерти отца Максима. Отец умер уже неделю тому назад. Он просил, умирая, уведомить сына о своей смерти только после похорон, чтобы тот не вздумал тратиться на поездку в Архангельск. Он уже похоронен — на деньги, вырученные от продажи оставленного им барахла.
Максим узнал смерть двенадцати лет от роду: ему было двенадцать лет, когда умерла его мать. Он очень любил свою мать, гораздо больше, чем отца. Он всегда боялся, что именно с ней случится какое-нибудь несчастье. В детстве, размечая все свои огорчения, он всегда ставил на первое место «мамин живот». Потому что он знал, что у матери — больной живот.
Мать не подозревала о том, что в беспокойстве за нее Максим доходил почти до галлюцинаций. Однажды, например, он с совершенной ясностью увидел, как налетела на мать ломовая телега. С нестерпимой четкостью он увидел возницу, взмахнувшего руками, остолбеневшего, с выпученными глазами и раскрытым ртом, над трупом матери. А мать была тут же, в комнате; она, живая, сидела на корточках перед печкой и разбивала кочергой головешки.
Однажды матери чрезвычайно понравился вареный картофель. Она съела его три полные тарелки. Поев, слегла. Ее тошнило целый день. К ночи ее начало рвать калом. Врач определил воспаление брюшины, сказал, что положение больной безнадежное, и ушел. Мать терпеливо переносила боли, даже почти не стонала. Она, впрочем, была в полусознании. Максима не допускали к ней. Он сидел в соседней комнате и слушал, как тикают большие стенные часы. Медная гиря медленно опускалась к полу, в то время как другая гиря поднималась кверху.
Было четыре часа ночи, когда отец, выйдя из спальной, где лежала мать, подошел к Максиму. Он любил жену, мать Максима, он был влюблен в нее — и не дошел до сына: споткнулся на гладком месте и тяжело сел на пол. Максим вбежал в комнату к матери. Мать дохнула при нем только три раза — эти три дыхания Максим запомнил на всю жизнь.