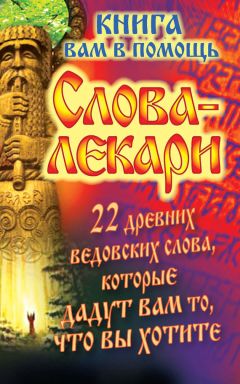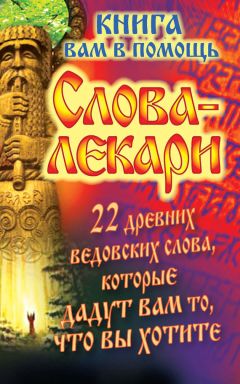Андре Мальро - Надежда
— Товарищи, русские самолеты прибыли.[123]
Глава пятнадцатая
Противник откатывался к Сеговии. Для того чтобы его преследовать, у республиканцев было слишком мало людей, вооруженных в истинном смысле этого слова, и они не хотели оголять Мадрид. Полк Мануэля и подразделения, приданные ему, на отдыхе поротно направлялись на учения.
Дождь прекратился, но утренние облака, полураспавшиеся на волокна, низко нависали над кастильскими домами, придавая сероватый оттенок камню и черепице. Стоя на пороге аюнтамьенто, Мануэль смотрел, как приближаются люди, за которых он отвечает.
Напротив — огромный замок. Как и в каждой из этих деревень, более чем наполовину разрушенный, он стоял на известняковом взгорке, осыпи которого перемешались с обломками стен; справа ползла вверх по склону улица, по ней-то и двигались войска, которые должны были пройти торжественным маршем по площади, лежавшей между замком и аюнтамьенто. Со времени ночного расстрела Мануэль еще ни разу не проводил смотра.
Первая рота приближалась, сапоги мерно грохотали по неровной мостовой, построение было безупречным, как в регулярной армии; когда бойцы подходили к аюнтамьенто, капитан скомандовал:
— Равнение налево!
Все головы разом повернулись к Мануэлю. В полку эта команда прозвучала впервые, да, может быть, и на всем Мадридском фронте звучала одною из первых. Это приветствие упрочивало единение добровольцев с их командиром; оно было введено капитанами-революционерами, и Мануэль чувствовал, что оно как-то связано с тем, что произошло ночью.
Когда подошла вторая рота, повторилось то же самое; и так было с каждой. Мануэль смотрел, как маршируют сомкнутым строем все эти люди, теперь не уступающие силой противнику. Он ощутил, что облечен долгом защищать их от всех — и от них самих, так же как они защищают испанский народ; но не мог забыть запрокинутые лица, покрытые грязью, фразу: «У тебя больше нет голоса для нас?» И взгляды бойцов, которые он перехватывал, не были безразличными и неопределенными: они были трагически братскими, запечатлевшими всю боль той ночи.
Замок был похож на тот, возле которого Мануэль когда-то слушал Хименеса на фронте Тахо. «Никогда не обольщать, не пускать в ход личное обаяние». Какое там личное обаяние: пришлось убить — и не врагов, а людей, вступивших в армию добровольцами; и сделать это пришлось, потому что Мануэль был в ответе перед всеми за жизнь каждого из тех, кто сейчас проходит мимо него. Каждый человек вынужден расплачиваться тем, за что сознает себя ответственным; он, Мануэль, отныне должен будет расплачиваться жизнями.
И в нарастающей печали, и в нарастающей твердости Мануэль встречал один за другим взгляды тех, кто побратался с ним кровью.
Глава шестнадцатая
Когда полк прошел, площадь опустела: ни единого человеческого взгляда, несколько бродячих псов да канонада вдали. Гартнер был в бригаде. Никогда еще Мануэль не чувствовал себя таким одиноким.
У него в распоряжении было три часа; и вид замка снова навел его на мысли о Хименесе. Тот был километрах в десяти от Мануэля и тоже на отдыхе. Мануэль позвонил, Старый Селезень был на месте. Мануэль отдал распоряжения на время своего отсутствия и сел в машину.
Деревня, где была расквартирована бригада Хименеса, находилась в тылу той, откуда выехал Мануэль. Там еще шли крестьяне-беженцы, и Мануэль добрался до полковника, миновав шеренги ослов и повозок и заторы из стад крупного рогатого скота.
Оба вышли; из-за сырости Хименес слышал еще хуже, чем обычно. Где-то далеко противник вел артобстрел правого фланга, доносилась канонада мадридской артиллерии. Сквозь расселины Сьерры виднелась Сеговийская равнина.
— Думаю, вчера я пережил самый важный день в моей жизни, — проговорил Мануэль.
— Почему, сынок?
Мануэль рассказал о случившемся. Некоторое время они шагали молча. Хименеса с первой же минуты удивило изменившееся лицо Мануэля, его короткая стрижка, его властность. От молодого человека, которого он когда-то знал, осталась только одна привычка: в руках у Мануэля была мокрая сосновая ветка.
По слухам, вблизи от Эскуриала были большие пожары; темно-бурые тучи цеплялись за отроги Сьерры. Дальше, со стороны Сеговии горела деревня: в бинокль Мануэлю было видно, как бегут ослы и люди.
— Я знал, что нужно делать, и сделал. Я решил раз и навсегда, что буду служить партии, и психологические реакции меня не остановят. К самоедству я не склонен. Дело в другом. Как-то вы мне сказали: для того, чтобы быть вожаком, требуется больше благородства, чем для того, чтобы быть личностью. О музыке мы говорить не будем; на прошлой неделе я был с женщиной, которую долго любил напрасно… много лет; и мне хотелось уйти… Я ни о чем не жалею; но если уж расстаюсь и с музыкой, и с нею, то во имя чего-то. Командовать можно лишь во имя служения, иначе… Я принимаю на себя всю ответственность за расстрел: он был необходим ради спасения остальных, наших. Но только вот что: с каждой ступенькой, на которую я поднимаюсь, овладевая деловыми качествами, умением командовать, я все больше и больше отдаляюсь от людей. Моя человечность с каждым днем понемногу идет на убыль. Вам, конечно, пришлось испытывать то же…
— Я могу вам сказать лишь то, чего вам не понять, сынок. Вы хотите действовать и в то же время не поступаться братством; боюсь, человека на это не хватает.
И Хименес подумал, что такого рода братство обретаемо только во Христе.
— Но, на мой взгляд, человек всегда защищает себя лучше, чем это кажется, и то, что отдаляет вас от людей, должно приближать вас к вашей партии.
Мануэль тоже, случалось, думал об этом; иногда не без страха.
— Но эта близость ничего не стоит, если одновременно отходишь все дальше от тех, на кого партия работает. Как бы партия ни старалась, тесная связь с людьми, возможно, жива лишь стараниями каждого из нас… Один из приговоренных сказал мне: «У тебя для нас теперь и голоса нет?»
Мануэль не пояснил, что и в самом деле потерял голос. Хименес взял его под руку. С высоты Сьерры все, что имело отношение к людям в долине, казалось смехотворно малым — все, кроме медлительных огненных завес, затягивавших небо, по которому так же медлительно ползли бесформенные облака; казалось, взглядам богов люди представлялись всего лишь пищей пожаров.
— Чего же вы хотите, сынок? Выносить смертный приговор с легкой душой?
Хименес смотрел на Мануэля с сочувствием, полным бессчетных воспоминаний о пережитом, противоречивых и, может быть, горьких.
— Привыкнете и к этому…
Подобно тому, как больной предпочитает говорить о смерти с тем, кто тоже болен, Мануэль говорил о моральной драме с человеком, который был своим в мире таких проблем; но говорил с ним не столько из-за смысла его ответов, сколько из-за их человечности. Коммунист, он не задавался вопросом, насколько обосновано было принятое решение; он не ставил совершившегося под сомнение; на его взгляд, когда возникало такого рода сомнение, было два выхода: изменить содеянное (об этом не могло быть и речи) или отбросить сомнение. Но особенность неразрешимых вопросов состоит в том, что по мере обсуждения они сходят на нет.
— Настоящий бой, — сказал Хименес, — начинается, когда приходится сражаться с чем-то в себе самом… До этого все слишком просто. Но человеком становишься только в таких боях. Всегда приходится сталкиваться с целым миром в себе самом, хочешь ты этого или нет…
— Вы мне сказали как-то: главный долг командира — внушать любовь, не пуская в ход личное обаяние — не «обольщая». Внушать любовь, не «обольщая» — и не обольщаясь.
В широком распадке между горами стал виден другой склон Сьерры; над Мадридом, почти неразличимым на сером просторе равнины, со скорбной медлительностью поднимались огромные клубы темного дыма. Мануэль знал, что они обозначают. Город исчезал за дымом пожаров, как исчезают за дымом боя военные корабли. Дымные столбы вздымались над бесчисленными пожарищами, алое свечение которых было отсюда невидимо, и распадались высоко-высоко в сером небе; казалось, все облака рождаются в этом единственном очаге, развернутом по направлению их движения, и все муки, скопившиеся за тонкой белой черточкой, которая отграничивала Мадрид от окрестных лесов, заполняли огромное небо. Мануэль вдруг осознал, что медлительный и тяжелый ветер, принесший запах гари с Куатро-Каминоса и Гран-Виа, выгнал у него из памяти то, что случилось ночью.
Подъехала автомашина, в ней сидел один из офицеров Хименеса.
— Подполковника Мануэля вызывают к телефону. Из генерального штаба.
Они поспешно вернулись; Мануэль был слегка встревожен. Он позвонил в штаб.
— Алло! Вы меня вызывали?
— Главное командование благодарит вас за проведение вчерашней операции.