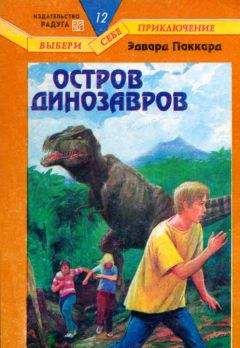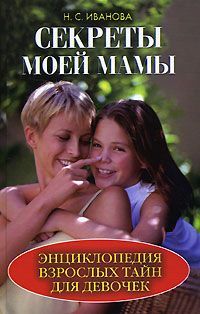Макс Фриш - Пьесы
Фашизм указал на близость зияющей бездны, на край которой пришла западная цивилизация. Для Фриша это именно "край ночи", ступень, за которой либо тотальное самоубийство, либо пересмотр многих и многих устоев, на которых зиждутся мораль, право, культура современного буржуазного мира. Задумываясь над смыслом происшедшего, Фриш в докладе 1949 года "Культура как алиби" говорил: "Речь идет о том еще неусвоенном факте, что на наших глазах, с нашим поколением произошли вещи, на которые человек, как мы привыкли считать, вообще неспособен. Когда я вижу на документальных снимках, как еврейки, выпрыгнувшие с четвертого этажа и поломавшие себе кости, ползут обратно в горящий дом, лишь бы только не попасть в руки немцев, и когда я тут же вижу лица этих немцев - лица, которые попадаются нам в переполненном трамвае или на вечеринке; особенно же когда я стою на самом месте преступления - перед виселицей, в камере пыток или в подвале, наполненном человеческим пеплом,- я испытываю одно и то же: беззащитное и растерянное удивление, что все это совершил человек. И не какой-нибудь отдельный изверг, а множество людей. И все это произошло не с народом, от которого мы вправе чего угодно ожидать, потому что у него нет водопровода и он не умеет читать, но с народом, у которого есть и в высшей степени развито то, что мы привыкли называть культурой..." Далее Фриш говорит, что традиционное понятие культуры обнаружило свою несостоятельность, в чем и убеждает зловещий образ музицирующего Гейдриха. Эта сугубо "эстетическая" культура, парящая над злобой дня, позволяет "думать о возвышенном и совершать низости", то есть допускает "нравственную шизофрению. "Настораживают и пугают письма из Германии, затрагивающие немецкий вопрос. В них без конца упоминают Гёте, Гёльдерлина, Бетховена, Моцарта и прочих деятелей культуры, выдвинутых немцами, и почти всегда имена гениев приводятся как доказательства алиби".
Симфонии и поэмы не спасли Германию от коричневого безумия. Помимо "эстетической", полагает Фриш, необходима и "политическая" культура народа, предполагающая высокоразвитое сознание нравственного долга и чувства ответственности каждого человека. Об этом и написана пьеса-реквием "Опять они поют".
В ней вновь сталкиваются два плана: реальный и фантастический, сон и явь. Эффект заповеди усиливается тем, что мертвым дано слово. Эффект предостережения - тем, что диалог павших и живых не состоится, живые не прислушиваются к тем, кто стал жертвой не только войны, но и неправедного образа жизни, приведшего к этой войне. Живые готовы повторить их путь - тем, что толкают сыновей "продолжить дело отцов" (Дженни в заключительной сцене). Пьеса, таким образом, рождена не только печалью, обращенной в прошлое, но и тревогой, повернутой в будущее.
В пьесе названы оба виновника катастрофы - явный и тайный. Явный бесчинствующий садист, фашистский молодчик Герберт, не только имя, но и весь облик которого напоминают того же Гейдриха. Этот бывший первый ученик, виртуозно играющий на виолончели и рассуждающий о прекрасном, об "изумительных фресках византийской школы XII века", например, как и его прототип, не дрогнув, отправляет на смерть ни в чем не повинных людей женщин, детей, стариков, прикрывая свой свирепый садизм демагогической фразой: "Мы обратились к орудию власти, к последней инстанции силы, чтобы познать величие духа..." и т. д. Фашизм - не сирота, он вскормлен буржуазией с ее разглагольствованиями об абстрактном гуманизме и либеральными разговорами о демократии, прикрывающими хищный собственнический оскал. Эту пустопорожнюю либеральную болтовню воплощает в пьесе учитель. И хотя блудный и неблагодарный сын и не прочь при случае поставить к стенке своего отца, кровная связь между ними очевидна. Это раскрывается в пьесе в сцене расстрела учителя Гербертом, который недвусмысленно комментирует свои действия: "Если бы все, чему вы нас учили - весь этот гуманизм и так далее, - если бы все это было правдой, разве могло бы случиться, чтобы ваш лучший ученик стоял вот так перед вами и велел расстрелять вас, своего учителя, как пойманного зверя?"
О том, что "трепотня" носит в рамках буржуазного мира общий характер, говорит американский летчик Эдуард: "Мы же сами дали их миру, красивые слова: мы говорили о праве, а сами несем насилие, мы говорили о мире, а сами порождаем ненависть..." Лицемерная и трусливая мораль буржуа в лице учителя готовит пилюли для мучающейся совести человека, пошедшего на поводу у фашизма, нехитро скроенное оправдание убийств. "Ты делал это по приказу!" говорит он Карлу. "Нельзя губить свою жену ради личных убеждений - жену, ребенка..." - внушает он ему. От войны не убежишь: смерть настигает Карла и под отчей крышей. Но на войне можно прозреть. "Нельзя оправдывать себя повиновением - даже если оно остается последней нашей добродетелью, оно не освобождает нас от ответственности. Ничто не освобождает нас от ответственности, она возложена на нас, на каждого из нас... Нельзя передать свою ответственность на сохранение другому. Ни на кого нельзя переложить бремя личной свободы...". В этих словах Карла, перекликающихся с положениями французских экзистенциалистов, слышен призыв к будущим поколениям: не потакать больше "высокооплачиваемому безумию генералов", одетых в фашистскую форму любого покроя и цвета.
Карлу вторит и американский полковник, также прозревший в "пограничной ситуации". Смерть сделала его судьей своей жизни, и приговор его неутешителен. То была типичная жизнь буржуа, основу которой составляли корысть и мелкое честолюбие, жизнь неяркая, нетворческая, неподлинная. "Надо было жить совсем по-другому", - горько сокрушается полковник. Однако возможности иной жизни видятся ему в неясной неоромантической дымке, как все тот же эскейпизм, бегство от жестокой цивилизации в объятия нежной природы, - Фришу эти мотивы нужны, скорее, чтобы подчеркнуть и оттенить уродливость буржуазного образа жизни, вряд ли он склонен видеть в них реальный выход.
"Вы умерли не напрасно",- говорят в пьесе живые павшим. Фриш понимает, насколько зыбок и коварен этот исторический оптимизм буржуа, готовый принести новые миллионы жертв на заклание золотому тельцу - идолу пресловутого и мнимого буржуазного прогресса. "Напрасно!" - утверждает за всех погибших полковник. Фашизм вырос на вполне конкретной исторической почве, однако это никоим образом не свидетельствует о его исторической неизбежности и необходимости. Фашизм можно было предотвратить - вот смысл пьесы. Логика подсказывает драматургу, что сделать это можно было, изменив и преобразовав сам буржуазный уклад. Однако он не находит пока конкретных путей к этому - вот серьезный изъян не только этой пьесы, но и всего творчества Фриша в целом. Однако само его неприятие фаталистической концепции содержит большой взрывчатый заряд, придавая его критике современной западной цивилизации острый и нелицеприятный характер.
Тема минувшей войны поставлена и в следующей пьесе Фриша, "Когда окончилась война". Несколько неожиданный сюжетный материал - любовь русского офицера и хозяйки дома, в котором он расквартирован и в подвале которого скрывается ее муж, немецкий офицер, - рожден очевидной идеей показать на этом исключительном примере возможность близости бывших врагов, в конечном счете возможность мира. Для первых послевоенных лет, когда уже сильно чувствовались ростки "холодной" войны, подобная постановка проблемы могла иметь в высшей степени положительное значение, однако Фриш не сумел добиться убедительного художественного ее воплощения, вынув голый факт из реальных конкретно-исторических связей и, подобно экспрессионистам, спроектировав его в довольно-таки туманную плоскость общемирового полюбовного братства.
Значительно больший резонанс приобрела в то годы третья пьеса Фриша "Китайская стена", написанная в стилистической манере эпического театра Брехта, хотя и лишенная брехтовской веры в назидательную действенность театрального представления. По замыслу Фриша эта пьеса должна была стать именно опытом балаганного представления - зрелища, вынесенного на площадь, в людскую гущу, с которой персонажи вступают в непосредственный контакт, ломающий строгие рамки отъединенной от зрителя сцены. Фриш упоминал в связи с этим Родена, собиравшегося поставить своих знаменитых "Граждан Кале" прямо на землю, без постамента. Однако он с большим основанием мог бы сослаться на чисто театральные прецеденты, попытку преодолеть "рамочность" сцены - на экспрессионистов, почитаемого им Торнтона Уайлдера и, наконец, того же Брехта.
Ни в одной из пьес Фриша нет такого маскарада, как в "Китайской стене", представляющей собой хоровод или, скорее, парад героев самых: отдаленных эпох и сравнительно недавнего прошлого, выступающих за насилие, - от Юлия Цезаря до Наполеона. Руководит парадом некто Современник, тщетно пытающийся убедить знаменитых полководцев в губительности и бессмысленности войны в наших, современных условиях. "Ваше высочество, атом можно расщепить, говорит он Наполеону. - Мировой потоп можно произвести. Следующая война, если она начнется, будет последней. Наш прогресс оставляет нам единственный выбор: погибнуть или стать людьми". Однако герои былых эпох так же мало учатся на "ошибках" будущего, как современные люди - на заблуждениях прошлого. И представитель интеллигенции Современник не в состоянии образумить ни тех, ни других. Пьеса, восходящая к традициям романтической сатиры, полна горькой самоиронии, выражающей сомнение искусства в собственных силах, - здесь задана тема, постоянно и неотступно мучающая Фриша, вплоть до самого последнего времени. Время действия пьесы - "сегодня вечером" - подчеркивает зловещие повторения на различных витках исторической спирали одних и тех же "ошибок", которые следовало бы назвать преступлениями.