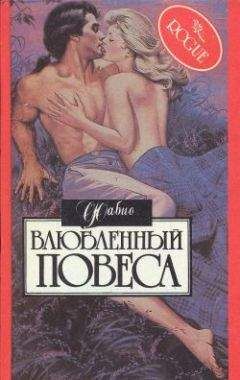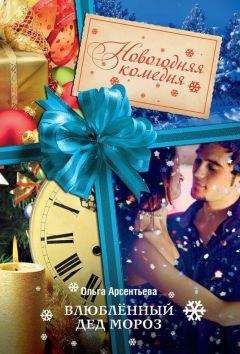Иван Лазутин - Суд идет
— Теперь слушай главное. Я сделал предложение следователю Шадрину. Пока колеблется, но думаю, что клюнет.
— Сколько? — тихо спросила Раиса Павловна.
— Сто пятьдесят. Подумай, через кого вручить. Только очень осторожно. И жди моего сигнала.
За дверью послышались шаги надзирателя. Открыв дверь, он протяжно выкрикнул:
— Время истекло! Прошу следовать за мной!
Ануров и Раиса Павловна простились холодно, не глядя в глаза друг другу. В последние минуты, перед тем как выйти в коридор, Ануров на ходу бросил ей:
— Скажи дочери, пусть пожалеет отца. Владимиру домой пока появляться нельзя.
XII
Перед Шадриным лежало перехваченное письмо, написанное рукой Баранова. Видно было, что писавший торопился, карандаш дважды ломался, Баранов писал:
«Лена! Ключ от секретера находится под диваном, на гвоздике. Все, что я написал, немедленно спрячь понадежней, а то может прийти милиция и нас с тобой обворуют. Они присвоят мое гениальное открытие, а потом судись с ними. Авторские споры — это самые сложные из всех тяжб. Лучше всего — увези рукописи на дачу и зарой в землю, только так, чтоб не было сыро. Береги мой труд. Идиоты врачи держат меня здесь совсем зря. Они бьют на то, чтобы признать меня больным и лишить права заниматься моей научной работой. Я совершенно здоров. А они все держат меня здесь. Каждый украденный у меня день они считают своей победой. Но я и здесь продолжаю свой труд. Правда, пока ничего не записываю, храню в голове. Как только приду домой — все запишу. Здесь есть такие субчики, которые лазят по тумбочкам и не прочь погреться в лучах чужой славы. Даже среди врачей. А один уже неделю улещает меня, чтоб я познакомил его хотя бы с тезисами моей работы. Мою тайну они не вырвут и под пистолетом.
Еще раз прошу — сделай все это немедленно. История тебе не простит, если ты равнодушно отнесешься к тому, что хранится в секретере.
Пока. Тороплюсь. Мне кричат из коридора. Зовут. Вызывают в день по 37 1/2 раз. Но я знаю — они хотят, чтобы я надышался табачным дымом, в котором плавает цианистый калий.
Целую тебя — твой преданный супруг».
«И там его страшит цианистый калий», — подумал Шадрин, перед которым лежала груда записей, сделанных карандашом. Почерк письма и рукописи был один и тот же.
Шадрин перевернул первую страницу, на которой стояло название «труда», изъятого из секретера на квартире у Баранова, и прочитал:
«Введение
Формула «деньги — товар — деньги» служила два века. А она глубоко ошибочна. Она смотрит на деньги, как на них смотрит приказчик: лишь бы подороже продать товар да на вырученные деньги купить такого же товару подешевле. Вот тебе и получается чистая прибыль. Последний студентишка, раскусивший эту формулу, уже считает, что познал жизнь и те пружины, на которых она висит.
Главное тут не в этой пресловутой формуле. Главное в том, что деньги — это не эквивалент товара, а источник дурных человеческих наклонностей и эмоций. Только так на них нужно и смотреть. В наш двадцатый век, когда все дороги ведут к коммунизму, деньги приобретают другой смысл. Они становятся злом, вокруг них разгораются такие страсти, которые приводят к предательству, лжи, лицемерию и ханжеству. Взять хотя бы Анурова. Разве это не жалкая личность, облекающаяся в трагическую маску бессребреника? Мне бывает мерзко видеть, как у него вспыхивает в глазах какой-то зеленоватый огонек, когда он получает свою крохотную долю «чистой прибыли».
А Шарапов? Этот старьевщик лавки утильсырья? За рубль он, как Ганечка из «Идиота» Достоевского, готов проползти от дома до Серпуховки. А Фридман? Это вообще — прореха на человеческом обществе. Гоголевский Плюшкин перед ним — мот и транжира.
Если бы из всей нашей «чистой прибыли» они получали равные со мной доли, они оскудели бы духом еще сильней. Но я их берегу и, как собаке кость, бросаю на троих меньшую половину, и они виляют передо мной хвостами.
В дальнейшем думаю сократить их долю в два раза. По мере сокращения их аппетитов у них будет проходить процесс очищения духа.
А то, подумайте, — завели машины, дачи, обставились импортными гарнитурами. И все тягаются со мной. Жалкие пигмеи, они не могут знать, что все мои удобства меня тяготят. Я с удовольствием бы жил в бамбуковой хижине и вставал бы вместе с птицами, если бы история не взвалила на мои плечи тяжелую, но почетную миссию разъяснить человечеству, что такое в наш век деньги и как можно достигнуть такого положения, когда обществу не будут нужны деньги. И вот тогда, когда случится триумф всех моих поисков, мой дом в Звенигороде станет центром паломничества не только наших, но и иностранных граждан. Особенно мне хочется встретиться с Морганом, Ротшильдом и Фордом. Их я приму в первую очередь. Мне будет приятен их визит.
Принимать такую вельможную публику в нищенской обстановке нельзя. Вот и приходится вопреки своим убеждениям делать исключения в главных принципах.
Вся беда в том, что на эксперименты уходит все больше и больше денег. Рубль, брошенный на тротуаре, работает вяло. Он вызывает только ленивый поклон и еле теплящуюся улыбку. И как всегда в этих случаях — оглядку по сторонам: кто обронил.
Зато какое испытываешь наслаждение, когда видишь, как склоняется человек за десяткой. Особенно новенькой. Нашедший, как в судороге, припадает к земле и не оглядывается, не вертит головой в поисках, кто обронил. Десятка работает энергичней. В ней аккумулируются соблазнительность порока в десять раз больше, чем в рубле.
А сотня!.. Она, как солнце, слепит человека! Она на какие-то секунды туманит его рассудок. Человек на минуту забывает понятия о чести, достоинстве, приличии, совести… Подняв ее, он летит без оглядки, как стрела, выпущенная из лука…
Главное в этих экспериментах — выбирать места подальше от милиционеров, так как близость их отражается на чистоте опыта. Эмоции притупляются. Человек боится закона. Затруднением последнего времени является то обстоятельство, что для проведения опытов нужно все больше и больше денег. Работа в разгаре. А их приходится добывать с большим трудом. Приходится опускаться до этих противных моему существу нечестных махинаций и возиться с Шараповыми и Фридманами.
Если б исхлопотать у правительства разрешения пользоваться фальшивыми деньгами, то работа продвинулась бы значительно быстрей. Но с этим боюсь даже обращаться — схапают, сочтут за фальшивомонетчика и припаяют статью.
Подробное описание экспериментов даю в настоящем труде поглавно. Выводы — в конце исследования…»
Дальше шла первая глава. Она была названа «Описание тысячи случаев, когда человек наклонился за рублем».
Шадрин закрыл глаза ладонью и долго сидел неподвижно. Временами ему казалось, что он сидит на карусели и его кружит, кружит… Откуда-то доносится музыка, смех… Он открыл глаза, тряхнул головой и принялся читать дальше.
Два часа он сидел над рукописью Баранова, но, не дочитав ее до конца, встал, прошелся по кабинету и несколько раз ущипнул себя. «Эдак можно и самому дочитаться до белых столбов. Что-то в голове все плывет и словно переместилось куда-то в сторону…» — подумал он и закрыл «труд» Баранова в сейф.
Весь этот день он находился под тягостным впечатлением от прочитанной рукописи, из которой перед ним предстало много ярких, сочных картин, порою смешных, порою трагических. И за всем этим стояло отчетливо лицо Баранова, слышался его зловещий смех.
Работать в этот день Шадрин не мог. Он даже подумал: «Посади среди таких ненормальных здорового человека — через месяц он или закричит петухом, или объявит себя Александром Македонским».
И только поздно вечером, уже в постели, когда он засыпал, неожиданно пришла мысль: «А где же в рукописи следы Ленинской библиотеки? Нет ни цифр, ни сносок, ни извлечений из других работ… И в самом деле — почему я не подумал об этом раньше, когда читал записи?» Это Шадрина насторожило. Мысль его стала работать в критическом направлении. Он вспомнил лекции по судебной психиатрии, перед глазами проходила вереница демонстрируемых больных, старался припомнить признаки и симптомы при различных душевных заболеваниях, сопоставляя поведение ранее виденных больных с поведением и размышлениями Баранова, пытался поставить хотя бы приблизительный диагноз его болезни.
«Все-таки интересно, что он делал в Ленинской библиотеке?» С этой мыслью Шадрин снова почувствовал себя сидящим на карусели. Вот его кружит, кружит… Откуда-то доносятся приятная музыка и мягкие приглушенные голоса…
XIII
Снежинки медленно и плавно переворачивались в морозном воздухе. Они падали на застывшие в немом и вечном молчании памятники, на обнесенные железными изгородями холмики и могильные плиты, на покосившиеся кресты, на продрогшие кладбищенские березы. Падая на обнаженные головы людей, на их лица, снежинки таяли, растекаясь маленькими прозрачными струйками. Не таяли снежинки только на восковом лице покойницы. Время от времени их смахивала заботливая рука уже немолодой женщины, стоящей у изголовья гроба. Это была мать Елены. Рядом с ней, прижавшись сиротливым воробышком с печальным личиком, ежилась в своей цигейковой шубке Таня. Время от времени бабушка склонялась над ней и целовала ее в пухлую румяную щеку.