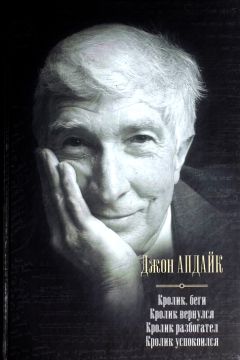Джон Апдайк - Кролик вернулся
Кролик с отцом шагают по Джексон-роуд и видят перед домом 303 незнакомую машину — темно-синий «олдсмобиль торонадо» с оранжево-синей планкой нью-йоркского номера. Отец ускоряет шаг.
— Это Мим! — восклицает он, и так оно и есть.
Она наверху и выходит на площадку лестницы, когда они появляются под цветным веером окошка; она спускается и останавливается перед ними в темной маленькой передней. Это Мим. И в то же время не Мим. Прошло ведь несколько лет с тех пор, как Кролик в последний раз видел ее.
— Привет, — говорит Мим и легким поцелуем касается щеки отца.
В их семье, даже когда дети были маленькие, не принято было целоваться. Она и брата поцеловала вот так же, мимоходом, но он удерживает ее, желая почувствовать всех этих мужчин, обнимавших ее, его сестру, которой он когда-то менял пеленки, которая держалась за его большой палец, когда они отправлялись в воскресенье гулять вдоль главного карьера, которая однажды, катаясь с ним на санках, воскликнула: ой, как я тебя люблю, а мимо со свистом проносились другие сани по темному утрамбованному склону, и улица была мягкая, как воск, а снег все шел и шел. Удивленная тем, что брат так крепко обнял ее, Мим снова его целует, еще раз словно клюет в ту же щеку, а потом решительно отводит его руки. Чувствуется опыт. Она тонкая, ни одной унции лишней, но настоящая женщина — должно быть, это от плавания в гостиничных бассейнах: ночные бдения убирают жир, а плавание сглаживает то, что осталось. Похоже, что она без косметики, даже без помады, вот только глаза, какие-то нечеловеческие, египетские, в павлиньем сине-лиловом окружении; они не просто обведены, а заново созданы и оснащены ресницами, которые, наверное, склеиваются, когда она моргает. Эти удивительно накрашенные глаза придают особую экспрессивность ее бледному рту, каждой полуулыбочке, когда она иронично поджимает губы, задумчиво их выпячивает или вдруг заливисто хохочет, — одно так быстро сменяет другое, что Гарри кажется, будто у нее в голове крутится закодированная пленка, выдавая с быстротой электроники весь арсенал выражений. Нос, единственный недостаток Мим, который не дал ей появиться на экране, который, возможно, не позволил ей познать славу, все такой же длинный, с многогранной шишечкой на конце, в точности как у мамы, но сейчас, когда Мим уже тридцать и ясно, что она никогда не станет экранной красоткой, ее нос кажется не таким уж большим недостатком, он, собственно, избавляет ее лицо от шаблонности и, невзирая на павлиньи глаза и подвижный, как у актрисы, рот, делает его даже милым. Именно это, как подозревает Кролик, будет еще не один год притягивать к ней мужчин, хотя теперь вместо ловких карьеристов, которым подавай ледяной эталон красоты, к Мим потянутся неудачники с рухнувшей карьерой или распавшимся браком, роняющие в баре слезу над стаканом вина, люди, которым нужно простое человеческое тепло. Мим одета по моде шестидесятых, как клоун: расклешенные брюки сплошь из горизонтальных полос, словно сшитые из лоскутков трех разных цветов, блузка в тонкую полоску, мужского покроя, если б не пышные рукава, туфли, и цветом и фасоном напомнившие Кролику клюв диснеевского Утенка Дональда, и кольца в ушах в три дюйма. Даже в школе Мим любила носить большие серьги — они придавали ей тогда что-то цыганское или арабское, а теперь, учитывая постоянный загар, — итальянское. Или майамско-еврейское. Ее белые, с медовым отливом волосы взлохмачены дорогим парикмахером — цвет их не возмущает Кролика, ибо уже в последних классах школы она то и дело их перекрашивала: однажды, когда он остановился в дверях, заметив, что сестра изучает себя в зеркале, она сказала, имея в виду свои тогда еще натуральные светло-каштановые волосы, — «протестантская крыса».
Папа, не зная, куда девать руки, гладит ее, затем вешает свое пальто и ведет дочь в темную гостиную.
— Когда ты приехала? Прямо с Западного побережья? Ты прилетела прямо в Айдлуайлд — теперь ведь перелеты беспосадочные, а?
— Папа, этот аэропорт больше не называется Айдлуайлд, теперь это аэропорт Кеннеди. Я прилетела пару дней назад — у меня были кое-какие дела в Нью-Йорке, я должна была ими заняться, прежде чем ехать сюда. В Нью-Джерси такая красота — дух захватывает, как проедешь нефтехранилища. Столько еще зелени кругом.
— А откуда у тебя эта машина, Мим? Арендовала? — Выцветшие глаза старика блестят от сознания, что у него такая самостоятельная дочь, которая так смело шагает по миру.
Мим испускает вздох.
— Мне одолжил ее один малый.
Она садится в качалку и кладет ноги на пуфик, который однажды в детстве приснился Кролику: ему приснилось, что он набит долларами, которые помогут им решить все проблемы. Сон был такой реальный, что Кролик даже вспорол ткань — до сих пор виден шов. Набита она была чем-то препротивным, хуже соломы.
Мим закуривает. Она держит сигарету ровно посередине губ, выдыхает две струйки дыма по обе стороны сигареты, смотрит, сдвинув брови, на потухшую спичку.
Папа совершенно заворожен этим обычным жестом и молчит вмертвую. А Кролик спрашивает сестру:
— Как тебе мама?
— Неплохо. Для умирающей.
— Она показалась тебе разумной?
— Вполне. Неразумным кажешься мне ты. Мама порассказала мне, что ты вытворял. В последнее время.
— У Гарри был чертовски трудный период, — вставляет папа, кивая и как бы включаясь в веретено разговора, который раскручивает его ослепительная дочь. — Представь, сегодня в «Верити» ему сообщили об увольнении. Меня оставили, а человека в расцвете сил выбросили. Я уж чуял, чем дело кончится, но не хотел сам говорить Гарри, это их обязанность — вот пусть и выполняют ее, мерзавцы, человек отдает им жизнь, а получает за свои труды под зад коленом.
Мим закрывает глаза и сразу становится немолодой и усталой, она говорит:
— Пап, я ужасно рада видеть тебя! Но не хочешь ли ты подняться и на минутку заглянуть к маме? Может, ее надо посадить на горшок, я ее спрашивала, но она меня, наверно, все еще стесняется.
Папа послушно поднимается, повинуясь желанию дочери, но не двигается с места, а стоит, пригнувшись, желая сгладить ее резкость.
— Вы двое всегда находите общий язык. Мы с Мэри всегда удивлялись, я, бывало, говорил ей: «На свете просто не сыскать брата с сестрой, которые были бы так близки, как Гарри и Мириам». Другие родители, знаешь ли, рассказывали нам про то, как дерутся их дети, а мы их просто не понимали, у нас такого никогда не было. Клянусь Господом Богом, мы никогда не слышали, чтобы кто-то из вас обозвал другого. Многие шестилетние мальчишки, когда в семье появляется маленький, понимаешь ли, против, привыкают уже к тому, что все делается для них, чувствуют себя хозяевами в гнездышке, но Гарри был не такой. С самого начала, с самого первого лета мы могли оставлять тебя с ним, оставлять вас одних в доме, когда мы с Мэри отправлялись в кино: в те дни, пожалуй, только так можно было забыть свои беды — пойти в кино. — Он усиленно моргает, выискивая среди многих нитей памяти ту единственную, которую надо вытянуть. — Клянусь Богом, нам повезло, — говорит он и тут же притормаживает, добавив: — Как посмотришь, что бывает с другими людьми. — И идет наверх; в глазах его, когда он попадает под свет лампочки, горящей на площадке, блестят слезы.
Был ли у них когда-либо общий язык? Кролик что-то не может припомнить, он только помнит, что они жили вместе в этом доме сезон за сезоном, переходя из одного класса в другой, шагали в праздники по Джексон-роуд — в День всех Святых, День благодарения, в Рождество, в День святого Валентина, в Пасху — среди запахов и звуков сменявших друг друга спортивных сезонов — футбола, баскетбола, бега; а потом он уехал, и Мим стала лишь словом в письмах матери; а потом он вернулся из армии и обнаружил ее уже взрослой, стоящей перед зеркалом, готовой для романов с мальчишками, а может быть, уже и познавшей нескольких, красящей волосы и носящей серьги в виде колец; а потом Дженис увела его из дома; а потом оба они с сестрой отсутствовали, и дом лишился молодой жизни, а теперь они снова оказались тут. Комнате, казалось, требовался дым ее сигареты, требовался давно, чтобы изгнать запахи старой мебели и болезни. Кролик сидит на табурете у пианино; он наклоняется и касается руки сестры:
— Дай курнуть.
— Я думала, ты бросил.
— Много лет назад. Я не вдыхаю. Разве что травку.
— Еще и травку! Ты, как я погляжу, времени тут зря не терял.
Она роется в сумочке, большом, ярком, словно состоящем из заплат мешке под стать ее брюкам, и бросает ему сигарету. Сигарета ментоловая с каким-то хитрым фильтром. Смерть легко обмануть. Не сработают церкви — сработает фильтр.
Кролик говорит:
— Я сам не знаю, что я вытворял.
— Да уж мама битый час со мной говорила. А в ее состоянии это немало.
— А что ты думаешь о маме теперь? Теперь, когда тебе ясна перспектива.
— Она великая женщина. Только реализовать себя ей было негде.