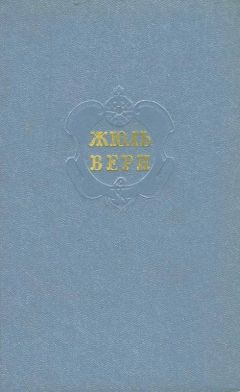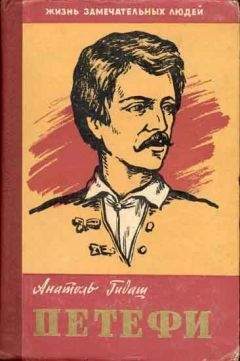Шандор Тар - Рассказы
В крохотной комнатенке было грязно и пыльно, под потолком и тут тянулись трубы, на них - какие-то массивные колеса, стержни, и еще тут стояло большое кресло, когда-то, видимо, цвета бордо; на свободном кусочке бетонной стены висела фотография космического корабля, рядом - изображение собаки. Вообще же всю стену закрывали полки, а на них -железяки разной формы; Борика бы сказала: мура всякая. И - игрушки. Медведи, собаки, куклы с волосами и без волос, замызганные, разодранные, из плюша, холстины, пластмассы; и еще что-то брезжило в полумраке. Потом Берта разглядела сломанные игрушечные паровозики, машинки, трактор, маленький велосипед. Была тут и бутылочка с соской, и крохотные детские туфельки. Шарики. Игрушечное ружье. Яношка плюхнулся в кресло, Берта стояла рядом; никто меня из дому не отсылает, сказала она немного погодя, когда все оглядела, стараясь ничего не касаться; Яношка только смеялся: иди ты. Все же видят. А знаешь, зачем тетка тебя отсылает? Почему ты говоришь: тетка, спросила Берта, словно ее ничего больше не интересовало. Да потому, что тетка, разве нет? Яношка поднял к ней веселое розовое лицо, хлопнул себя по коленям: садись. Садись сюда. Ну вот что, слушай меня, когда Берта уселась и он слегка подправил ей зад, чтобы было удобней, ты меня слушай сейчас. Слушаешь, спросил он; девушка кивнула; вот и правильно, сказал Яношка, всегда делай так, как я говорю, тогда будешь со мной в дружбе. Тетка твоя, Таллаи, тебя потому отсылает, что к ней в это время приходит Хеллер, возчик, которого даже Малика выгнала, а Малика - она известная курва. Малика, переспросила Берта, потому что надо же было ей что-то спросить, она ничего не могла понять, ну совсем ничего. При чем тут Борика? И еще - Хеллер? Пока ты по улице бродишь, продолжал Яношка, они там тыкаются, все это знают. Но ты не горюй, теперь у тебя хорошая жизнь начнется, я тебя сюда возьму, к себе, а может, и женюсь на тебе, ты ведь тоже тронутая; отец с матерью говорили, что ты да я - два сапога пара. Яношка что-то жевал, изо рта у него шел сильный запах мяты, который заглушал все прочие запахи.
Не реви, сказал он немного спустя, хотя Берта и не плакала вовсе, чему она и сама удивилась; более того, в ней разлилось какое-то непонятное спокойствие, и все словно онемело; еще бы, сегодня ей уже не придется идти на улицу, а потом что-то придумывать, врать, потому что вот он, тут, рядом, Яношка, он на ней женится, и все. Ты на меня смотри, прозвучал новый приказ, и она послушно повернула к нему голову, теперь ты моя жена, услышала она; голос звучал где-то на уровне ее носа, она же тем временем рассматривала шею Яношки, рассматривала теперь совсем открыто его чертовски гладкую кожу, которую, как учила ее Борика, надо покрыть мелкими частыми поцелуями; на шее торчал хитрый маленький волосок; Берта не удержалась и выдернула его. Рука Яношки приподняла ей подбородок, эй, ты что, мне же больно; но лицо его смеялось. Ух, как здорово, сказал он, когда она выдернула еще один. Вечером можешь у нас остаться, спать будешь со мной, воскликнул он с воодушевлением, и выдергивай все, что хочешь. Я к стене лягу, голышом, а ты рядом, на месте матери, потому что она меня обманула, пусть теперь жалеет. Берта не очень понимала, что он говорит, и вообще не знала, как же ей быть сейчас с этим улыбчивым, непричесанным, немытым парнем, который к тому же мужчина с демоническим телом и который обнимает ее за талию, наверно, чтобы она не упала, но теперь ей все не важно, важно только новое чувство, надежда, что больше не надо ходить в сквер. Никогда. Она подняла голову, чтобы рот ее был на одном уровне с его ртом, как объясняла ей Борика: ты голову немного в сторону наклони, чтобы носы не сломать друг другу, вспоминала она теткины наставления и приоткрыла рот, чуть-чуть высунула язык, зажмурилась - и стала ждать. В трубах что-то пощелкивало и сипело, в желтоватом воздухе висела серая, мышиного цвета пыль, и ничего больше не происходило. Ты сейчас и правда как чокнутая, услышала она смех Яношки, и сильными своими пальцами он стал расчесывать ей волосы, ото лба к затылку, будто кукле, и двигал ее руки, немного больно было, но в общем ничего; потом вынул что-то у себя изо рта и положил Берте на язык. Это была мягкая, мокрая, разжеванная с хлебом, теплая жевательная резинка. Можешь пожевать, сказал он, потягиваясь и громко сопя, только потом отдай обратно. Жвачка тут же прилипла Берте к зубам, но это не было неприятно, она заглянула Яношке под френч, на грудь, которую тоже надо будет покрывать поцелуями, в нос ей ударили теплые испарения, пряный аромат дьявольской плоти, как сказала бы Борика, там тоже виднелись мягкие волоски, почти пушок, ишшь ты! Яношка, словно угадав, о чем она думает, вдруг встал и стянул через голову френч; Берта, не успев встать на ноги, упала; была минута, когда у нее появилось чувство, что теперь ей конец. Ее охватила дрожь; чувство было приятное.
Бледная Истома
Когда бригада садилась завтракать, Дюла устраивался на кончике скамейки, на самом краешке, сидел, можно сказать, половинкой задницы, но ему было в самый раз. Он всегда так сидел; уже, наверно, лет десять. А то и двадцать. Другие приходили и уходили, шумели, суетились, сидели то там, то здесь, потом вообще нигде уже не сидели, потому что увольнялись, или были уволены, или, такое тоже было, умирали. Скамью тоже несколько раз передвигали с места на место, сейчас она стояла возле стены; не самое удачное место: окно, что за ней, не откроешь полностью, кто-нибудь обязательно долбанется головой о раму, а не откроешь - дышать невозможно от вони и от жары. Ну и черт с ним, отмахнулся мастер, когда ему сказали об этом, вам что, хочется, чтобы и неудобств никаких не было? Потерпите - небось вам тут не "Хилтон". Да, тут был не "Хилтон", это уж точно.
Стол же, который поставлен был давным-давно, оказался короче, чем скамья, так что Дюла, например, ел с колен, но ему и так было нормально - то, что он с собой из дому приносил, вполне там умещалось: баночка с печеночным паштетом, кусок хлеба или два рогалика да пол-литра молока; молоко он выливал в глиняный горшок, который ставил возле ног, на бетонный пол. Банку с паштетом Дюла вскрывал на шлифовальном станке и клал паштет в рот чайной ложкой. Другим места требовалось больше: из сумок появлялись на свет божий куски мяса, завернутые в промасленную бумагу, яичница между двумя ломтями хлеба, маринованные огурцы или салат, молоко, чай, остатки вчерашнего гуляша в кастрюльке, ну и все в таком роде. Такач, тот иногда и вино приносил в покрашенной в белый цвет бутылке, но никого не угощал. Под столом металлические стержни, ящики, всякий хлам, каждый отпихивал его подальше, чтоб было куда ноги поставить, другие обратно отпихивали, так время и проходило. А рядом, в нескольких шагах от стола, ревели, тряслись автоматические станки, числом двадцать штук, меж ними плавала масляная гарь, поднималась, крутясь, к почерневшим маленьким окнам. В утренние часы станки работают в нормальном режиме, почти тихо, а потом все меняется: бешено визжат приводы, резцы торопливо вгрызаются в толстые цилиндрические стержни, и лезет из-под струи масла обожженной до синевы спиралью дымящаяся стружка.
Сегодня как-то так получилось, что у бригады с утра было хорошее настроение; еще стоя за станками, люди перекрикивались друг с другом, а когда прогудела сирена на перерыв, все словно с цепи сорвались: бегом, толкаясь, крича, бросились к желобу с умывальниками; прямо дети, думал Дюла, пока втирал в кожу рук очищающий гель, а потом, когда дошла до него очередь, смывал подсохшую серую массу под краном. Потом появились сумки, пакеты, даже одна-две газеты, Секей салфетку свою расстелил, на которую Арпи Киш тут же поставил масленый локоть, Тоот воткнул ножик в доску стола, загремели ложки, но треп не затих ни на минуту. Дюла обычно слушал вполуха, о чем там они говорят, и так известно: бабы, или футбол, или правительство кроют. Ни одна из этих тем его не интересовала особенно: мысли его были сегодня совсем в другом месте. И стоило ему подумать о том, где были его мысли, как сердце в груди у него принималось бешено колотиться. А треп шел своим чередом, и Дюла только после особенно громкого взрыва хохота стал прислушиваться, что там говорит Мате; вот клянусь, не видать мне мать родную, то и дело повторял Мате с набитым ртом, и маленькие глазки-пуговицы едва были видны на его черной смеющейся физиономии, голова у меня вот такая была, и он руками показывал после каждой третьей фразы, какая у него была голова, а остальные благодарно ржали: хорошо, когда находится какая-нибудь история, за которой незаметно идет время.
Хорошо - даже если шум вокруг такой, что говорящему приходится орать и помогать себе жестами; вообще здесь постепенно все отвыкают от разговора; у него, у Дюлы, скажем, уже много лет никакой охоты надрывать глотку, он лучше помолчит. Правда, сейчас он помалкивает по иной причине - чтобы не спугнуть то, чего, может, на самом деле и нету. Мате у них в мастерской недавно, а новички всегда больше других суетятся, место ищут себе в бригаде, к тому же сегодня и у Мате отменное настроение. Сейчас он объясняет, как ехал он в детский сад за детишками на своей машине, которая сейчас в самом расцвете отрочества: всего четырнадцать годков ей, - ехал, а у самого глаза закрывались, хоть пальцами их держи. С похмелья. Голова - вот такая, показывал он, даже еще чуть-чуть больше; просто чудо, что я детский сад нашел... Слушатели вставляли иногда реплики, но Мате не давал себя сбить; ну, стало быть, забрал я своих двух разбойников, продолжал он еще громче, вроде все у них на месте, говорю им, домой, шагом марш!.. Из репродуктора на стене затрещал усиленный звонок телефона, под ним еще и красная лампочка замигала, чтобы увидели, если никто не услышит; на секунду все подняли взгляд, но потом продолжили, кто чем занимался: тут если звонят, так только мастеру. Иду я, держусь за их ручонки, чтобы, не дай бог, не растянуться, рассказывал Мате, помогая себе руками, потом, значит, поставил их у задней дверцы, обошел машину кругом, кое-как втиснулся за руль - и пошел! У-ух! В такое время я уж так осторожно еду! Можно сказать, на цыпочках! С чувством; всю душу вкладываю!.. А мозги у меня, те, которые, стало быть, еще остались, вокруг пива крутятся, которое я дома буду глотать одно за другим; ну, кое-как дополз я до дома, даже машину не запер, галопом по лестнице, вваливаюсь в дверь, прямиком к холодильнику, открываю бутылку, морда в пене. И тут жена спрашивает: а дети-то где?