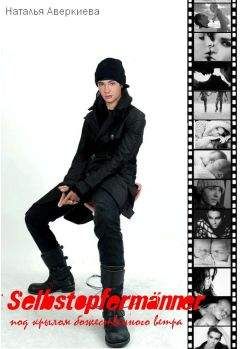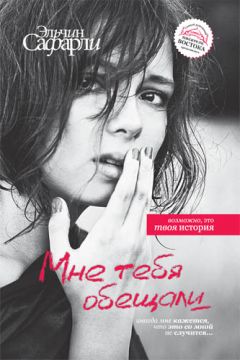Оскар Уайлд - Тюремная исповедь
И у меня были свои иллюзии. Я думал, что жизнь будет блистательной комедией и что ты будешь одним из многих очаровательных актеров в этой пьесе. Но я увидел, что она стала скверной и скандальной трагедией и что ты сам был причиной зловещей катастрофы, зловещей по своей целенаправленности и злой воле, сосредоточенной на одной цели. С тебя была сорвана личина воплощенной радости и наслаждения, та маска, что так обманывала и сбивала с пути и тебя и меня. Теперь ты, если только сможешь, поймешь хоть немного, как я страдаю. В какой-то газете, кажется в "Пэлл-Мэлл", в рецензии на генеральную репетицию одной из моих пьес, про тебя было сказано, что ты следовал за мной, как тень; теперь воспоминание о нашей дружбе тенью преследует меня здесь, оно никогда меня не покидает, оно будит меня ночью, без конца повторяя одну и ту же повесть, и гонит сон до самого рассвета; а на рассвете этот голос снова звучит, он преследует меня и в тюремном дворе, где я на ходу что-то бормочу сам себе; каждую мелочь страшных ссор я вынужден вспоминать, нет ни одной подробности из того, что случалось за эти годы, которая не воскресала бы в тех закоулках мозга, где гнездятся скорбь и страдание; каждый резкий звук твоего голоса, каждый жест, вздрагивание твоих нервных рук, каждое злое слово, каждая ядовитая фраза вновь приходят на память; я вспоминаю все улицы и все набережные, где мы проходили, все стены комнат, все леса, окружавшие нас, помню, в каком месте циферблата стояли стрелки часов, куда несся на крыльях ветер, каков был цвет лунного лика.
Знаю, что есть лишь один ответ на все, что я тебе говорю: ты меня любил все эти два с половиной года, когда Судьба сплетала в один алый узор нити наших раздельных жизней, ты и вправду любил меня. Да, знаю, что это так. Как бы ты ни вел себя со мной, я всегда чувствовал, что в глубине души ты действительно меня любишь. И хотя я очень ясно видел, что мое положение в мире искусства, интерес, который я всегда вызывал у людей, мое богатство, та роскошь, в которой я жил, тысяча и одна вещь, которые делали мою жизнь такой очаровательной и такой обаятельно неправдоподобной, все это, в целом и в отдельности, чаровало тебя, привязывало ко мне; но, кроме всего этого, что-то еще более сильное влекло тебя ко мне, и ты любил меня гораздо больше, чем кого бы то ни было. Тебя и меня постигла в жизни страшная трагедия, хотя твоя трагедия была непохожа на мою. Хочешь знать, в чем она заключалась? Вот в чем: Ненависть в тебе всегда была сильнее Любви. Твоя ненависть к отцу была столь велика, что совершенно пересиливала, превышала, затмевала твою любовь ко мне. Эти чувства не боролись или почти не боролись меж собой, до таких размеров доходила твоя Ненависть, так чудовищно она разрасталась. Ты не понимал, что двум таким страстям нет места в одной душе. Им не ужиться в этих светлых покоях. Любовь питается воображением, от которого мы, сами того не сознавая, становимся мудрее, лучше, сами того не чувствуя, становимся благороднее, чем мы есть; в воображении мы можем охватить жизнь во всей полноте; оно и только оно помогает нам понять других как в их реальных, так и в их идеальных отношениях. Только прекрасное и понимание прекрасного питает Любовь. Ненависть может питаться чем попало. Не было ни одного бокала шампанского, ни одного вкусного блюда, которое ты съел за эти годы, которое не питало бы твою ненависть, не утучняло бы ее. И в угоду ей ты играл моей жизнью, как играл на мои деньги, беспечно, безоглядно, не думая о последствиях. Когда ты проигрывал, ты считал, что проигрыш не твой, когда выигрывал, ты знал, что тебе достанется все ликование, вся радость победы.
Ненависть ослепляет человека. Ты этого не понимал. Любовь может прочесть письмена и на самой далекой звезде, но ты был так ослеплен Ненавистью, что не видел ничего за стенами твоего тесного, обнесенного стеной вертограда - уже иссушенного излишествами твоих низменных страстей. Ужасающее отсутствие воображения - этот поистине роковой порок твоего характера - было исключительно плодом Ненависти, заполонившей тебя. Неслышно, незаметно и невидимо Ненависть подтачивала твою душу, как ядовитый лишайник - корни больного слабого растения, и ты уже ничего не видел, ничем не интересовался, кроме самых мелочных дел, самых жалких прихотей. Все то, что Любовь взрастила бы в тебе. Ненависть отравляла и умерщвляла. Когда твои отец впервые стал нападать на меня, то нападал он на меня как на твоего личного друга, в письме лично к тебе. Как только я прочел это письмо, полное непристойных угроз и грубой брани, я сразу понял, что на горизонте моей неспокойной жизни собрались тучи страшной напасти. Я сказал тебе, что не желаю быть игрушкой для вас обоих в вашей застарелой ненависти друг к другу, что я в Лондоне для него - лучшая добыча, чем некий иностранный посол в Гамбурге, что я буду несправедлив к самому себе, если позволю поставить себя хоть на один миг в подобное положение, и что в жизни у меня есть более достойные занятия, чем ссориться с таким человеком, как он, - вечно пьяным, деклассированным и полубезумным. Но тебе невозможно было это объяснить. Ненависть ослепляла тебя. Ты твердил, что ваши ссоры никакого отношения ко мне не имеют, что ты не позволишь отцу указывать тебе, с кем водить знакомство, что с моей стороны будет просто нечестно вмешиваться в ваши дела. До того, как ты говорил со мной, ты уже послал отцу в ответ глупейшую и пошлейшую телеграмму. И, конечно, ты и вести себя стал глупо и пошло. Человек совершает в жизни роковые ошибки не потому, что ведет себя безрассудно: минуты, когда человек безрассуден, могут быть лучшими в его жизни. Ошибки возникают именно от излишней рассудочности. Это совсем иное дело. Твоя телеграмма задала тон всем твоим дальнейшим отношениям с отцом и, как следствие, повлияла на всю мою жизнь. И самое нелепое - то, что даже самый отпетый уличный мальчишка постыдился бы послать такую телеграмму. За наглой телеграммой совершенно естественно последовали письма твоего адвоката, и эти письма только подхлестнули твоего отца. Выбор ты ему не оставил. Из-за тебя это стало для него делом чести, или, вернее, угрозой бесчестия: ты решил, что тогда твои притязания будут иметь больше веса. Вот почему в следующий раз он напал на меня уже не как на твоего личного друга, в личном письме, а как на члена общества, на глазах у этого общества. Мне пришлось его выгнать из моего дома. Тогда он стал разыскивать меня по всем ресторанам, чтобы публично, перед всем светом поносить меня в таких словах, что, ответь я ему тем же, я погубил бы себя, а не ответь совсем, погубил бы себя вдвойне. Тогда-то и настал момент, когда ты должен был бы выступить и сказать, что не позволишь делать меня мишенью таких гнусных нападок, такого подлого преследования, и ты должен был бы сразу отказаться от каких бы то ни было притязаний на мою дружбу. Надеюсь, теперь ты это понял. Но тогда ты ни о чем не думал. Ненависть ослепляла тебя. Выдумал ты только одно, не считая оскорбительных писем и телеграмм твоему отцу: ты купил этот смехотворный пистолет, и в отеле "Беркли" вдруг раздался выстрел, вызвавший такие сплетни, хуже которых ты никогда в жизни не слыхивал. Впрочем, ты был явно в восторге, что из-за тебя разгорелась такая чудовищная вражда между твоим отцом и человеком моего общественного положения. Полагаю, что это вполне естественно льстило твоему самолюбию и возвышало тебя в собственных глазах. Если бы твой отец получил право распоряжаться твоей физической оболочкой, которая не интересовала меня, и оставил бы мне твою душу, до которой ему не было никакого дела, ты был бы глубоко огорчен таким исходом. Ты почуял повод к публичному скандалу и ухватился за него. Ты был в восторге, предвкушая бой и оставаясь при этом в безопасности. Никогда я не видел тебя в лучшем настроении, чем в то время. Единственным разочарованием было для тебя как будто то, что никаких встреч между нами, никаких ссор не происходило. В утешение себе ты посылал отцу такие немыслимые телеграммы, что несчастному пришлось отдать распоряжение прислуге - ни под каким видом не вручать ему твои послания, о чем он тебе и написал. Но ты не унялся. Ты сообразил, что можно посылать ему открытки, и вовсю использовал такую возможность. Этим ты еще больше натравливал его на меня. Впрочем, не думаю, чтобы он мог так легко отказаться от своих намерений. Фамильные черты характера были в нем слишком сильны. Его ненависть к тебе была столь же неистребима, как твоя ненависть к нему, а я был для вас обоих козлом отпущения, предлогом для нападения и для защиты. Жажда быть у всех на виду была в твоем отце чертой не индивидуальной, а родовой. И все же, если бы его одержимость стала угасать, ты раздул бы ее заново своими открытками и письмами. Так и случилось. И, конечно, он зашел еще дальше. Сначала он нападал на меня как на частное лицо, частным образом, потом как на члена общества - в общественных местах, и в конце концов решился на самый жестокий и последний выпад - напасть на меня, как на представителя Искусства, именно там, где мое Искусство воплощалось в жизнь. Он достает обманным путем билет на премьеру моей пьесы, замышляет устроить скандал, прервать спектакль, произнести гнусную речь по моему адресу, оскорбить моих актеров, осыпать меня всякими гнусностями и непристойностями, когда я выйду на вызовы после финала, - словом, совершенно погубить меня и мое Искусство самыми грязными и мерзостными выходками. По счастью, в припадке случайной, пьяной откровенности, он хвастает перед кем-то своими планами. Об этом сообщают в полицию, и его в театр не пускают. Вот тут тебе пора было вмешаться. Тут тебе представился подходящий случай. Неужели ты до сих пор не понял, что тебе надо было воспользоваться этим, выйти и сказать, что ты ни за что никому не позволишь из-за тебя губить мое Искусство? Ведь ты знал, что значит для меня мое Искусство, знал, что оно - тот великий глубинный голос, который сначала открыл меня мне самому, а потом и всем другим, что оно - истинная моя страсть, та любовь, перед которой все другие увлечения, словно болотная тина - перед красным вином или ничтожный светляк на болоте - перед волшебным зеркалом Луны. Неужто ты и теперь не понял, что отсутствие воображения - поистине самый роковой порок твоего характера? Перед тобой стояла самая простая, самая ясная задача, но Ненависть тебя ослепляла, и ты не видел, что надо делать. Я не мог просить прощения у твоего отца за то, что он почти девять месяцев подряд преследовал и оскорблял меня самым гнусным образом. Избавиться от тебя я тоже не мог. Не раз я пытался вычеркнуть тебя из своей жизни. Я дошел до того, что просто бежал из Англии за границу, надеясь укрыться от тебя. Все было напрасно. Только ты один мог бы что-то сделать.