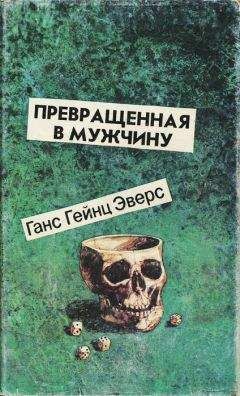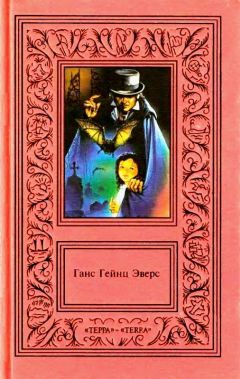Уильям Фолкнер - Авессалом, Авессалом !
О господи, ты только о них подумай. Ведь Бон знал, что делает Генри — точно так же, как он всегда, с того первого дня, когда они увидели друг друга, знал, что Генри думает. Может, он именно потому и знал, что делает Генри, что не знал, каковы его собственные намерения, и не узнает этого, пока в один прекрасный день не произойдет взрыв, и тогда все вырвется наружу, и он поймет, что всегда знал, как это будет, и, значит, ему нечего думать о себе, а надо только наблюдать, как Генри пытается примирить свои намерения со всеми голосами своего наследия и воспитания, которые ему твердят Нет. Нет. Нет. Ты не можешь. Ты не должен. Ты не посмеешь. Может, к этому времени они уже были под огнем, над головами у них проносились, гремели и рвались снаряды, а они лежали, готовясь к атаке, и Генри снова восклицал: «Но ведь тот герцог Лотарингский так поступил! На свете, наверно, было множество таких, кто так поступал, только об этом никто не знал, и может, они за это страдали и умерли и теперь находятся в аду. Но они так поступали, и теперь это не имеет значения; ведь даже от тех, про кого мы знаем, теперь остались только имена, и теперь это не имеет никакого значения», а Бон смотрел на него, слушал и думал Это все оттого, что я сам не знаю, что мне предпринять, и потому он чувствует, что я колеблюсь, хотя он этого не сознает Может, если б я ему сейчас сказал, что я на это пойду, он понял бы, чего он хочет, и сказал бы мне: Ты не посмеешь. И может, твой отец на этот раз был прав, и они действительно думали, что война все решит и им не придется ничего решать самим, а может, на это надеялся один только Генри; ведь, может, твой отец был прав и тут, и Бону было все равно: раз те два человека, которые могли дать ему отца, от этого отказались, для него теперь не имело значения вообще ничего — ни месть, ни любовь, ни все остальное; ведь теперь он знал, что месть не может восполнить нанесенный ему ущерб, а любовь не может его умиротворить. А может, Бон не писал Джудит вовсе не из-за Генри, а оттого, что все было ему безразлично — даже и то, что он все еще не знал своих намерений. Затем наступил следующий год, Бон теперь был уже офицером, они двигались к Шайло[85], опять-таки ничего об этом не зная, и снова разговаривали; они шли колонной, офицер отстал и подъехал к той шеренге, в которой шагал рядовой, и Генри снова восклицал, стараясь приглушить свой взволнованный, полный отчаяния голос: «Неужели ты до сих пор не знаешь, как тебе поступить?» — а Бон, взглянув на него с тем своим выражением, которое могло быть улыбкой, отвечал: «Допустим, я скажу тебе, что не намерен к ней возвращаться», — и тогда Генри, шагавший с ранцем и с восьмифунтовым ружьем, начинал задыхаться, он задыхался, а Бон, не сводя с него глаз, говорил: «Я теперь впереди, далеко от тебя; когда начнется бой, атака, я буду еще дальше...» Тут Генри простонал: «Замолчи! Замолчи!» — а Бон все смотрел на него, и в уголках его глаз и рта блуждала эта смутная неясная улыбка... «и кто про это узнает? Ты даже сам не будешь точно знать, да и кто сможет доказать, что пуля янки не сразила меня в ту самую секунду, а может, даже раньше, чем ты спустил курок?..» — а Генри, задыхаясь, широко раскрытыми глазами смотрел в небо; он оскалил зубы, на лбу его выступил пот, он так крепко вцепился в приклад своего ружья, что побелели костяшки пальцев, и, задыхаясь, твердил: «Замолчи! Замолчи! Замолчи! Замолчи!» Потом было Шайло, и на второй день битва была проиграна, и бригада отступила от Питсберг-Лендинга и... — Послушай! — вскричал Шрив, — постой, подожди! — (уставившись на Квентина, он и сам начал задыхаться, словно должен был не только подсказать своей тени реплику, но и снабдить ее воздухом, в котором она могла бы ему повиноваться). — Ведь тут твой отец опять ошибся! Он говорил, что ранили Бона, но это не так. Кто мог ему про это сказать? Кто мог сказать Сатпену или твоему деду, который из них был ранен? Сатпен этого не знал, потому что его там не было, а деда твоего там тоже не было, потому что там его самого ранило, и он потерял руку. Так кто же им сказал? Не Генри, потому что Сатпен после этого видел Генри всего один раз, и может, им было некогда говорить о ранах, да и вообще говорить о ранах в армии конфедератов в 1865 году было все равно что углекопам говорить о саже; и Бон тоже не мог, ведь его Сатпен вообще больше не видел, потому что его уже не было в живых, — так вот, ранили не Бона, а Генри, и в конце концов Бон нашел его, нагнулся, хотел поднять, а Генри не давался, он оттолкнул его и сказал: «Оставь меня! Дай мне умереть! Тогда я ничего не буду знать», а Бон ему ответил: «Значит, ты хочешь, чтоб я к ней вернулся?» — и вот Генри лежал, сопротивлялся, тяжело дышал, пот выступил у него на лбу, он до крови закусил себе губы, и тогда Бон ему сказал: «Ты хочешь, чтоб я к ней вернулся. Скажи это. Может, тогда я не вернусь. Скажи», а Генри лежал, все еще сопротивляясь; сквозь мундир проступила свежая кровь, он оскалил зубы, лицо его покрылось потом, и в конце концов Бон схватил его за руки, поднял и взвалил себе на спину...
Сначала их было двое, потом четверо, теперь снова стало двое. Комната и вправду напоминала склеп, в воздухе чувствовалось что-то застывшее, неподвижное и мертвенное, совсем не похожее на живой бодрящий холод. Но они оставались там, хотя всего в каких-нибудь тридцати футах их ожидало тепло и постель. Квентин даже не надел пальто; оно лежало на полу там, куда свалилось с ручки кресла, на которую Шрив его повесил. Они не уходили от холода. Они оба терпели его, словно в нарочитом пылу самобичевания хотели, чтобы их физические муки помогли им острее ощутить душевную боль тех двоих юношей в те времена, пятьдесят или, вернее, сорок восемь, а потом сорок семь и сорок шесть лет назад, ибо шел шестьдесят четвертый, а потом шестьдесят пятый год, и голодные, оборванные остатки армии, отступив через Алабаму и Джорджию в Каролину, двигались дальше не под напором теснящего их победоносного войска, а скорее под напором взметнувшихся высоким валом имен проигранных обеими сторонами сражений — Чикамога, Франклин, Виксберг, Коринт и Атланта[86], сражений, проигранных не только из-за численного превосходства противника и недостатка амуниции и провианта, а из-за генералов, которым совсем не следовало быть генералами — ведь они стали генералами не потому, что изучили современные методы ведения войн или способны были их усвоить, а потому, что неограниченная кастовая система наделила их божественным правом командовать своими ближними; к тому же эти генералы прожили недостаточно долго, чтобы овладеть искусством вести битвы с участием крупных соединений, действующих предусмотрительно и согласованно, ибо они уже с самого начала были таким же анахронизмом, как Ричард, Роланд или Дюгеклен[87]; в двадцать восемь, тридцать и тридцать два года они уже носили плюмажи и плащи с алым подбоем и в кавалерийской атаке захватывали военные корабли, но не брали ни хлеба, ни мяса, ни снарядов; они могли за три дня разбить три армии, а потом ломали свои же изгороди, чтоб сварить мясо, украденное в своих же коптильнях; они могли в одну прекрасную ночь с горсточкой людей лихо поджечь и уничтожить вражеские склады с запасом провианта на миллион долларов, а на следующую ночь сосед находил их в постели со своей женой и убивал на месте — двое, четверо, теперь снова двое, как думали Квентин и Шрив, и эти двое-четверо-двое все еще продолжали говорить, причем один все еще не знал, как он поступит, а второй — Генри — знал, как придется поступить ему, но еще не мог с этим смириться; возомнив себя авторитетом по вопросу кровосмешения, он толковал о своем герцоге Джоне Лотарингском, словно надеялся воскресить этот преданный анафеме и отлученный от церкви призрак, чтобы тот самолично подтвердил ему, что это хорошо — так люди и прежде и позднее пытались заставить бога или дьявола оправдать поступки, на которые их толкала их собственная плоть — двое-четверо-двое смотрели друг на друга в этой холодной, как склеп, комнате: Шрив, канадец, дитя снежных вьюг и мороза, в пальто, напяленном поверх купального халата, пытался закрыть уши поднятым воротником; Квентин, южанин, угрюмый и хрупкий отпрыск дождей и удушливого зноя, в тонком костюме, который он привез из Миссисипи, не удосужился даже поднять с полу свое пальто (столь же тонкое и бесполезное здесь, как и его костюм):
(...шла зима шестьдесят четвертого, армия отступала через Алабаму в Джорджию; теперь прямо у них за спиной была Каролина, и Бон, офицер, размышлял: одно из двух — либо нас догонят и уничтожат, либо Старик Джо[88] нас вызволит, и мы соединимся с генералом Ли перед Ричмондом, и тогда, по крайней мере, у нас будет право сдаться; а однажды его вдруг осенило, он вспомнил, что Джефферсонский полк, которым теперь командовал его отец, входит в состав корпуса Лонгстрита[89], и возможно, с этой минуты ему показалось, что цель всего отступления состоит в том, чтобы приблизить его к отцу и дать отцу еще один шанс. И вот ему, наверно, показалось: наконец-то он понял, почему никак не мог решить, что он намерен предпринять. Возможно, у него даже на секунду мелькнула мысль: «Боже мой, я еще молод; даже после этих четырех лет я все еще молод», но только на секунду: даже не успев еще перевести дух, он сказал себе: «Ладно. Пускай я молод. Но я все еще верю, верю хотя бы в то, что война, страдания, эти четыре года, когда он старался сохранить своих солдат живыми и боеспособными, чтобы их кровью и жизнью заплатить за возможно большее количество земли, — все это изменило его настолько (хоть я и знаю, что это не так), что он скажет не: Прости, а: Ты, — мой старший сын. Пожалей свою сестру, никогда больше не встречайся ни с кем из нас». Потом наступил шестьдесят пятый, и остатки Западной армии сохранили теперь лишь способность медленно и упрямо отходить назад под ружейным и артиллерийским огнем; может, теперь они даже не замечали отсутствия сапог, шинелей и провианта, и потому он смог писать о трофейном лаке для печей так, как написал о нем в письме к Джудит, когда наконец понял, что он намерен предпринять, и сообщил об этом Генри, и Генри сказал: «Слава богу. Слава богу», — разумеется, не потому, что он одобрял кровосмешение, а потому, что наконец-то они решили что-то сделать, и он наконец мог стать чем-то, хотя бы это что-то влекло за собою окончательное и бесповоротное отречение от своего наследия, воспитания и традиций предков и означало, что он обрек себя на вечное проклятье. Возможно, он даже перестал толковать о своем герцоге Лотарингском, потому что теперь он мог сказать: «Мы все попадем в ад — не в твой, не в его ад и даже не в ад папы римского, а в ад моей матери и ее матери и отца, и их матерей и отцов, и туда попадешь не только ты, а мы — все трое, нет, все четверо. И по крайней мере, мы будем все вместе там, где нам и следует быть: ведь даже если бы туда попал только он один, нам все равно пришлось бы отправиться вслед за ним, потому что мы трое — всего лишь иллюзии, которые он породил, а иллюзии каждого человека — это часть его самого, все равно как кости, мясо или память. И мы все вместе будем терпеть адские муки, и потому нам не нужно будет вспоминать любовь и блуд, а может быть, в муках человек даже не помнит, за что он попал в ад. А если мы не сможем все это вспоминать, то муки не могут быть очень уж страшны». Потом в январе и феврале шестьдесят пятого они были уже в Каролине, и то, что от них осталось, уже почти целый год отходило назад, и расстояние от них до Ричмонда было короче того, что они уже прошли, а расстояние от них до конца было еще короче. Но для Бона важно было не пространство, отделявшее их от поражения, а пространство, отделявшее его от другого полка, от того часа и той минуты: Ему даже не придется меня ни о чем просить; я просто возьму его за рукав и сам ему скажу: «Можешь не беспокоиться, она больше никогда меня не увидит». Потом был март в Каролине, и они все еще медленно и упрямо отходили назад, прислушиваясь к звукам, доносившимся с севера — ведь со всех других сторон ничего не было слышно, потому что теперь со всех других сторон все было кончено, а с севера до них могла дойти только весть о поражении. И вот однажды (будучи офицером, он, наверно, знал, слышал, что генерал Ли отрядил и послал им на подкрепление часть своих войск; возможно, еще до прибытия этих полков он узнал их названия и номера), однажды он увидел Сатпена. Возможно, в тот первый раз Сатпен и вправду его не видел, возможно, в тот первый раз он мог сказать себе: «Ах, вот что — он меня не видел», и потому он решил нарочно попасться на глаза Сатпену, чтобы дать ему возможность высказаться. И вот он во второй раз увидел это ничего не выражающее каменное лицо, эти бледные пронизывающие глаза, в которых не промелькнуло никакой искорки, ничего; лицо, в котором он различил свои собственные черты, понял, что тот его узнал, и это было все. Это было все; дальше не могло уже быть ничего; возможно, он наконец вздохнул спокойно; на лице его появилось то выражение, которое с первого взгляда можно было назвать улыбкой, и он подумал: «Я мог бы его заставить; я мог бы пойти к нему и заставить его», хотя сам знал, что этого не сделает, потому что теперь все кончено, кончено раз и навсегда. И возможно, в ту же. ночь или через неделю, когда их остановили (ведь даже и Шерману иногда приходилось ночью останавливаться), когда горели костры, зажженные ради тепла — тепло по крайней мере дешево, и его нельзя израсходовать в один присест, Бон сказал: «Генри. Теперь уже недолго; скоро у нас не останется ничего, нам даже нечего будет делать, мы лишимся даже предлога медленно отходить назад ради чести или остатков гордости. Бога у нас тоже не будет; ведь все эти четыре года мы, по-видимому, обходились без него, просто он не позаботился нас об этом известить; у нас не будет не только одежды и обуви, но даже и нужды в них, не будет не только земли и возможности добыть себе пропитание, но и нужды в нем, потому что мы, научились жить и без него; а коль скоро у тебя нет бога и ты не нуждаешься ни в пропитании, ни в одежде, ни даже в крыше над головой, — значит, у тебя не осталось ничего, на чем могли бы держаться, произрастать и процветать гордость и честь. А раз у тебя нет ни гордости, ни чести, ничто уже не имеет значения. Однако в тебе заложено нечто, чему нет дела до гордости и чести, что все равно живет и даже целый год отходит назад, лишь бы остаться в живых, а когда все это кончится и не останется даже и пораженья, все равно не согласится спокойно сидеть на солнце и умирать, а пойдет в лес и, движимое инстинктом, который сильнее, чем просто воля к жизни, начнет искать и выкапывать из земли коренья и прочее. Это древняя как мир, живущая лишь чувства-, ми недреманная плоть, для которой нет разницы между отчаянием и победой. Генри». И тогда Генри скажет: «Слава богу. Слава богу», он будет, задыхаясь, повторять: «Слава богу. Не пытайся мне объяснять. Просто действуй», а Бон спросит: «Значит, ты хочешь, чтоб я действовал? Ты, брат, мне это разрешаешь?» — «Брат? Брат? Ты старший, почему ты меня спрашиваешь?» — возражает Генри, а Бон: «Нет. Он меня так и не признал. Он меня только предостерег. Ты брат и сын. Получил ли я твое разрешение, Генри?» «Напиши, Напиши. Напиши», — отвечает Генри. И тогда Бон написал это письмо, спустя четыре года, и Генри его прочитал и отправил. Но тогда они еще не бросили все, не ушли, не отправились вслед за письмом. Они все еще отходили назад, медленно и упрямо, надеясь услышать с севера весть о конце — ведь надо обладать недюжинною силой, чтобы выйти из игры, когда терпишь поражение; они уже целый год медленно отходили назад, и все, что у них теперь оставалось, было не волей, а просто способностью, глубоко укоренившейся привычкой держаться. И вот однажды ночью они опять остановились, потому что Шерман опять остановился, и вестовой, обойдя весь бивуак, в конце концов отыскал Генри и сказал ему: «Сатпен, полковник требует тебя к себе в палатку»).