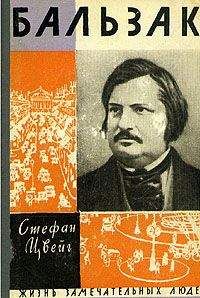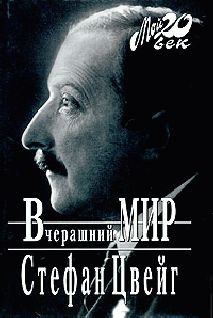Стефан Цвейг - Вчерашний мир
Каждый - годы до Сталина! - испытывал к европейцу безграничное доверие, смотрели они на человека добрыми, верными глазами и руку трясли по-братски, что есть силы.
Но в то же время даже самые скромные давали почувствовать, что если они кого и любят, то, уж во всяком случае, без "почитания" - ведь все были братья, товарищи, друзья. И писатели тоже не изменяли этому правилу. Мы все собрались в доме, принадлежавшем некогда Александру Герцену, - не только европейцы и русские, но и тунгусы, и грузины, и кавказцы; каждая советская республика послала к Толстому своего делегата. Многие из них не могли объясняться друг с другом, и все-таки понимали все. То один, то другой вставал, подходил, называя книгу, которую написал его собеседник, и прикладывал руку к сердцу, как бы говоря: "Мне очень нравится", а потом вашу руку сжимали и трясли так, точно хотели от избытка любви переломать вам все кости. И каждый - что было особенно трогательно - подносил вам подарок. Времена были еще трудные, ценностей никаких ни у кого не имелось, но каждый оставлял что-нибудь на память: старую, грошовую гравюру, книгу, которую мне было не прочесть, или деревенскую резную самоделку. Я был в более выгодном положении, ведь я мог одаривать "драгоценностями", которых в России тогда не было: бритвенным лезвием "Жиллет", авторучкой, хорошей белой почтовой бумагой, парой мягких домашних туфель; так что на обратном пути чемодан у меня был совсем легкий. Покоряла именно эта молчаливая и вместе с тем порывистая сердечность, неизвестные у нас широта и тепло отношений, которые здесь воспринимались обостренно - ибо у нас ведь до "народа" никогда никто не добирался, - всякое пребывание с этими людьми оборачивалось опасным соблазном, перед которым и в самом деле не могли устоять иные из иностранных писателей во время их визитов в Россию. Видя, что их чествуют, как никогда прежде, и любят широкие массы, они верили в то, что необходимо прославлять режим, при котором их так читали и любили; ведь это заложено в человеческой натуре: на великодушие отвечать великодушием, на избыток чувств избытком чувств. Должен признаться, что в иные мгновения я сам в России был близок к тому, чтобы стать высокопарным и восхищаться восхищением.
Благодарить за то, что я не поддался этому колдовскому дурману, следует не столько мои собственные душевные силы, сколько незнакомца, имя которого мне неизвестно и никогда не станет известно. Это произошло после торжественной встречи со студентами. Они окружили меня, обняли, трясли мои руки. Мне еще было жарко от их энтузиазма, охваченный радостью, я видел их оживленные лица. Целая ватага, четыре или пять человек проводили меня домой, при этом переводила мне все прикрепленная ко мне переводчица, тоже студентка. И только закрыв за собой дверь гостиничного номера, я наконец остался один, один, по сути дела, впервые за последние двенадцать дней, потому что все время тебя здесь сопровождали, окружали теплом и заботой. Я стал раздеваться и снял пиджак. При этом что-то зашуршало. Я сунул руку в карман. Это было письмо. Письмо на французском языке, но письмо это прибыло не по почте, очевидно, кто-то, когда меня со всех сторон обступили студенты, ловко опустил его мне в карман.
Письмо было без подписи, очень умное, человечное письмо, совсем не от "белого", и все же полное горечи из-за усилившегося в последние годы ограничения свободы. "Верьте не всему, - писал мне этот незнакомец, - что Вам говорят. При всем, что Вам показывают, не забывайте того, что многое Вам не показывают. Поверьте, что люди, с которыми Вы говорите, Вам в большинстве случаев говорят не то, что сказать хотят, а лишь то, что смеют. За всеми нами следят, и за Вами - не меньше. Ваша переводчица передает каждое Ваше слово. Телефон Ваш прослушивается, каждый шаг контролируется". Он приводил ряд примеров и мелочей, перепроверить которые я был не в состоянии. Но письмо это я сжег в полном соответствии с его указанием: "Вы его не просто порвите, потому что отдельные кусочки из Вашей мусорной корзины достанут и составят их вместе" - и впервые задумался обо всем. В самом деле, разве не соответствовало действительности то обстоятельство, что во всей этой искренней сердечности, этом чудесном дружелюбии мне ни единого раза не представилась возможность поговорить с кем-нибудь непринужденно наедине? Незнание языка мешало мне вступать в непосредственный контакт с простыми людьми. И потом: какую микроскопически малую часть этой необозримой страны мне довелось увидеть в эти четырнадцать дней! Если я хотел быть честным по отношению к себе и другим, мне следовало признать, что все мои впечатления, какими бы волнующими, какими воспламеняющими во многих отношениях они ни были, не могли иметь никакой объективной значимости. Таким образом, вместо того чтобы, как очень многие европейские писатели, побывавшие в России, тотчас опубликовать книгу с восхищенным "да" или ожесточенным "нет", я не написал ничего, кроме нескольких статей. И подобная сдержанность была оправданна, ибо уже через три месяца многое выглядело по-другому, чем это видел я, а через год, поскольку ситуация изменилась коренным образом, каждое мое слово было бы опровергнуто фактами как ложь. И все же я ощутил стремнину нашего времени в России так интенсивно, как редко в моей жизни.
Мои чемоданы при отъезде из Москвы были довольно пусты. Все, что можно было раздать, я оставил в Москве, взяв с собой лишь две иконы, которые долго еще украшали мою комнату.
Но самым ценным из того, что я привез домой, была дружба Максима Горького, с которым я впервые встретился лично в Москве. Год или два спустя мы увиделись в Сорренто, куда он вынужден был поехать, чтобы поправить свое подорванное здоровье, и где я провел три незабываемых дня гостем у него в доме.
На этот раз наше общение протекало довольно своеобразно. Горький не владел никакими иностранными языками, я же не говорил по-русски. По логике вещей нам оставалось только молча разглядывать друг друга или прибегать в любом разговоре к переводческим услугам нашей дорогой баронессы Будберг. Но не зря ведь Горький был одним из гениальнейших в мировой литературе рассказчиков; рассказ был для него не только формотворчеством, но и насущным способом самовыражения. Рассказывая, он жил в событиях своего рассказа и превращался в его героев - и я, не зная языка, понимал его сразу же по мимике. Сам он выглядел очень "русским", иначе не скажешь. В его лице не было ничего примечательного; этого высокого, худого человека со светлыми волосами и широкими скулами можно было представить себе крестьянином в поле, извозчиком на облучке, уличным сапожником или опустившимся бродягой он был воплощенный "народ", воплощенный тип русского человека.
На улице я не обратил бы на него внимания, прошел бы мимо, не заметив ничего особенного. Только сидя напротив него, когда он говорил, вы понимали, кто это, ибо он невольно превращался в того, кого описывал. Я вспоминаю его рассказы о человеке, встреченном в скитаниях, - старом, горбатом, усталом, - я понял это прежде, чем мне перевели. Голова сама собой ушла в поникшие плечи, лучисто-голубые, сиявшие в начале рассказа глаза стали темными, усталыми, голос задрожал, сам того не зная, он превратился в старого горбуна.
Но стоило ему припомнить что-нибудь веселое, он заливался смехом, непринужденно откидываясь на стуле; лицо его сияло: слушать его, когда он плавными и в то же время точными - я бы сказал, изобразительными - жестами воссоздавал обстановку и людей, было неописуемым наслаждением. Все в нем было совершенно естественно - походка, манера сидеть, слушать, его озорство; как-то вечером он нарядился боярином, нацепил саблю, и тотчас взгляд его стал высокомерным. Властно насупив брови, он энергично расхаживал взад и вперед по комнате, словно обдумывая безжалостный приговор; а в следующее мгновение, сбросив маскарад, он рассмеялся по-детски - ни дать ни взять деревенский парень. В нем была необыкновенная воля к жизни; он, с его разрушенным легким, жил, собственно говоря, вопреки всем законам медицины, однако невероятное жизнелюбие, железное чувство долга поддерживало его; по утрам он писал каллиграфически аккуратным почерком новые страницы своего большого романа, отвечал на сотни вопросов, с которыми обращались к нему молодые писатели и рабочие его страны; рядом с ним я чувствовал Россию - не старую или сегодняшнюю Россию, а саму душу бессмертного народа, широкую, сильную. И все же его угнетала мысль, что он живет вдали от своих товарищей в такие годы, когда каждая неделя решающая.
В эти дни я случайно стал очевидцем одной очень характерной, в духе новой России, сцены, в которой мне открылось снедавшее его беспокойство. В Неаполь впервые зашел советский военный корабль, находившийся в учебном плавании. Молодые матросы в парадной форме, никогда не бывавшие в этом всемирно известном городе, бродили по Виа-де-Толедо, не в силах досыта наглядеться своими большими, любопытными крестьянскими глазами на все диковины. На следующий день некоторые из них решили съездить в Сорренто, чтобы навестить своего писателя. Они не предупреждали о своем визите: русская идея братства подразумевала, что их писатель всегда найдет для них время. Они нагрянули к нему домой - и не ошиблись: Горький не заставил их ждать.