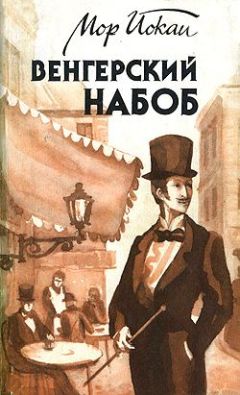Мор Йокаи - Венгерский набоб
Спохватясь, Янош Карпати мгновенно сообразил, какую допустил бестактность, и бросился за уходящей, которую и удалось задержать наипростейшим образом: с разбегу наступив ей сзади на шлейф, отчего достойная дама чуть навзничь не свалилась.
Теперь уже неизвестно было, то ли провожать, то ли извиняться.
- Ничего, ничего, - необычно медленно и тихо, с явной готовностью простить произнесла добрейшая Марион, - подобные выходки извинительны... для юных новобрачных.
И с величайшей церемонностью сошла в сопровождении хозяина вниз по лестнице; однако, почитая ниже своего достоинства глядеть под ноги, наступила на галерее на хвост растянувшейся там борзой, которая в ужасе выпрыгнула в окно.
Испугалась и сама барышня Марион, но, подобно змее, которая и в страхе успевает ужалить, кошке, шипящей и от ужаса, сказала только, обратись к Карпати:
- Простите за невольный реванш у одной из ваших протеже. Я и в мыслях не имела важную сию _особу_ обидеть. Вы знаете ведь, что на том высоком собрании под вашим председательством один муж славный и умнейший намерен внести предложение: впредь не числить борзых среди собак. Вот это эмансипация настоящая. Рекомендую вашему благосклонному вниманию. Ой, как бы опять на борзую не наступить!
Но до подножки кареты всего шаг оставался.
Все же и этот шаг потребовал разных ухищрений. Шлейф, например, так перевести в парящее положение и взлететь в карету, чтобы кружева на длинных, до пят, панталонах выглянули лишь в меру благопристойности. Трудный шаг, каковой все случившиеся поблизости руки постарались облегчить.
Но вот она уже в карете, к общей радости, однако и оттуда спешит нанести двойной удар остающимся:
- Надеюсь, я достойному попечителю поручаю племянницу, хотя совсем не уверена, не навлечет ли бед на его дом ревность Сент-Ирмаи! Adieu, милый сосед, chere voisine, adieu, chere niece, adieu! [До свидания... дорогая соседка, до свидания, милая племянница, до свиданья! (франц.)]
Толкуй как хочешь многократные эти "адью". И насмешка в них над Яношем Карпати, к которому, право же, трудно кого-нибудь приревновать, и намек на дурную славу его хором, не слишком украшающих доброе имя женщины.
Адью, адью. Гляди, кучер, борзую не задави. И не гони очень, пока из Карпатфальвы не выехали: поди знай, где еще какой-нибудь фаворит изволит полуденному отдыху предаваться. Адью!
Поехала.
Янош Карпати все кланяется, поясные поклоны отвешивает посреди двора. Дама в ответ машет длинным зонтиком, приговаривая, наверно: "Давненько то было, давненько; я тогда сущим ребенком была!"
А молодые женщины, избавясь от обузы, подхватили проказливо под руки доброго г-на Яноша и, припевая, приплясывая, потащили с собой вверх по лестнице.
Тот смеется, сияет, радуется вместе с ними, думая: были б ему дочерьми две эти женщины и звали отцом, вот славно бы.
Живое эхо чистосердечного, невинного этого веселья разносится по древним покоям. Давно уже здешние стены не слыхивали таких звуков.
И в архив они до старого Варги донеслись; потирая руки, принялся он на радостях расхаживать, топтаться по комнате: хоть тут же в пляс. Одно плохо: не с кем своей радостью поделиться. Стряпчий, правда, рядом, но до того ли ему. Дуется, что умываться надо теперь каждый день.
19. ПОДРУГА
Сент-Ирмаи достигла своей цели.
Недели в карпатфальвском доме оказалось довольно, чтобы совершенно изменить положение Фанни в свете. К той, кого Сент-Ирмаи удостоила своей дружбой, все стали благосклонней. Чванные дамы, кои прежде за великое снисхождение почитали пожаловать на торжества, где эта мещаночка во дворянстве собиралась исполнять роль хозяйки дома, - роль, которая из всех самой суровой критике подвергается, теперь с меньшим высокомерием стали думать о предстоящем. Строгие добродетельные матроны, сомневавшиеся, а прилично ли своих юных дочерей везти в Карпатфальву, в этот лабиринт, где элевсинские какие-то мистерии [тайный культ Деметры, Диониса и Персефоны в Аттике] устраиваются, теперь безо всяких опасений заказывали платья у модисток. Присутствие Сент-Ирмаи - вернейшая гарантия пристойности и благонравия; даже дела общества борзятников благодаря этому вступили в новую стадию: корифеи-акционеры еще довод получили в его пользу. Самородки, братья-питухи приготовились поумнее вещи говорить при ней, а рыцари моды, ручные светские львы - помалкивать с умным видом.
Фанни словно бы выросла нравственно в общем мнении, завоевав дружбу Флоры; даже в домашнем кругу смотрели на нее другими глазами. Пожалуй, и сам г-н Янош только теперь стал понимать, каким владеет сокровищем. В отраженном свете этой дружбы ему самому Фанни показалась во сто крат лучше, краше и милее.
День целый обе поглощены были трудной, большой работой. Не улыбайтесь: работа и впрямь велика и тяжела. Легко мужу сказать: я, мол, завтра или через месяц устраиваю прием и зову всю округу, кого знаю и кого в глаза не видал. Остальное-то ведь женина забота!
Это ей надо помнить обо всем потребном, чтобы блеск и довольство царили вокруг; ей надобно знать все причуды, прихоти и пожелания тысяч гостей: кто и чем приятно будет поражен, кто и отчего может почувствовать себя задетым или обойденным; кто что любит, а кто кого недолюбливает.
И не удивительно, коли растерялась бы новая хозяйка, не зная, с чего начать. Но под Флориным доглядом все как по маслу пошло. Флора понаторела уже в подобных приготовлениях, все держала в уме и, как подойдет черед, спросит себе с невинным видом: "А не взяться ли теперь за это? А нынче с этим покончим, хорошо?" Так что Фанни легко могла подумать, будто сама во всем разбирается, если б не чуткое ее сердце, ощущавшее на каждом шагу нежную помощь подруги. Муж, во всяком случае, пребывал в твердом убеждении, что жена отлично с этими делами управляется, будто век в графском доме жила.
И едва наступит вечер, едва они останутся одни и время выдастся поговорить, сколько мудрых, полезных вещей узнавала Фанни от подруги! Сама-то она помалкивала, сама только в изящный этот, красноречивый ротик смотрела и в еще красноречивей блестевшие глаза, которые счастью учили ее. Служанок о ту пору они отсылали и, сами помогая друг дружке закончить вечерний туалет, весело толковали на свободе о чудных обычаях света.
Достали однажды и тот список, над которым столько попотеть и помучиться пришлось милейшему Варге. Фанни не скрыла, как расхваливал Флору почтенный управитель, с каким воодушевлением говорил о ней, так что она заранее ее себе вообразила, - и такой она оказалась на самом деле.
- Ага, вы, значит, критике подвергали гостей, экспертизе.
- И подвергли бы, да порешили с добрым стариком, что он тех только будет аттестовать, кто достоин моей любви. И он, пока добрался до твоего имени, во всех открыл множество добрых качеств, кроме одного: не за что их любить.
Сент-Ирмаи рассмеялась от души.
- Ну так иди, давай обсудим и остальных.
Фанни подсела к ней. Флора обняла ее, приблизив красивую ее головку к своей, и обе склонились над списком - судить свет.
Но прежде вволю посмеялись самой мысли, что вот сознательно, с обдуманным намерением собираются позлословить.
И вправду забава сомнительная.
Да только злословие злословию рознь. Одно дело ложные слухи сеять о ком-либо, тщательно скрываемые недостатки подглядывать и разглашать, чернить и предавать знакомых; это уж никак красивым занятием не назовешь, это злословие низкое. Но другое дело, познавая слабости людские, просвещать невинные, неустойчивые души, - наставлять, предостерегать кого-нибудь, неуверенного и легко ранимого, против терний и кремней, змей, ухабов и западней на его пути. Это правильно, хорошо; это _злословие высокое_ (хотя найдутся, кто нонсенсом назовут такое сочетание).
Итак, займемся злословием возвышенным.
Начнем с мужчин.
Выбор не мой, а двух наших дам, держащих совет; будь на то моя воля, я бы, конечно, с женщин начал.
- Здесь, сверху, сплошь их сиятельства да превосходительства идут. Сиятельных господ куда труднее изучить, у них ведь, кроме обычных, еще свои, сиятельные пороки и добродетели есть. Вот первый, - будь он обыкновенным человеком, про него бы говорили: распущенный, о женщинах думает дурно, исключая свою жену, о которой вообще не думает; вдобавок горяч и неуравновешен, в раж войдет, за словом в карман не полезет, с мужчинами говорит или с дамами, все равно. В любом обществе, сколько бы юных девушек его ни окружало, такие рассказывает анекдоты, что и мужчина-то поскромней краской зальется; а вот поди ты: записной патриот, имя его гремит; значит, и почтения требует к себе - с ним нельзя как со всеми обращаться. Но это же почтение - вернейшее против него оружие. Он наверняка и тебя пустится донимать своими ухаживаньями, но ты не пытайся отклонять их, а только его гражданские добродетели в ответ восхваляй. Это его сразу в остолбенение приводит. Я пробовала, и всегда удавалось. Чуть только фривольные, игривые или дерзкие, вульгарные подходы свои начнет, как твое преувеличенное почтение мигом напомнит ему о его общественной репутации. Ни с кем он не чувствует себя принужденней, как с женщинами, которые, едва он настроится на доверительный лад, о его деяниях твердить начинают, речи его восхвалять в дворянском собрании, а перейдет к прямой атаке, воззрятся на него, как на статую Нельсона, вчетверо его самого выше, которой никак уж неуместно сойти со своего пьедестала. Он тебя простушкой, дурочкой будет за то почитать, но ведь тебе же лучше.