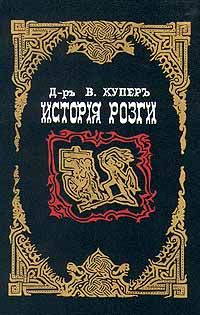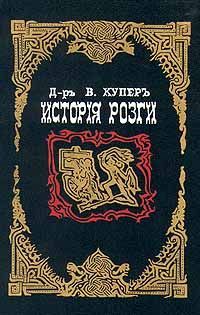Ромен Роллан - Жан-Кристоф (том 2)
Парижские писатели из кожи лезли вон, лишь бы походить на людей, произносящих новое слово. В сущности, все они были консерваторами. Не было в Европе другой литературы, где бы так безраздельно царило прошлое, "вечное вчера": в толстых журналах, в больших газетах, в субсидируемых театрах, в академиях, Париж играл в литературе ту же роль, что Лондон в политике: роль узды для европейской мысли. Французская Академия стала чем-то вроде палаты лордов. Дух учреждений, созданных еще при старом режиме, продолжал навязывать свои устарелые нормы новому обществу. Революционные элементы отбрасывались или быстро приручались, к великому своему удовольствию. Даже когда правительство делало в политике социалистические жесты, в искусстве оно шло на поводу у академических школ. Против академий боролись только кружки, и боролись плохо. Каждый из членов кружка ждал лишь случая пролезть в Академию - и тогда уж старался перещеголять любого академика. Впрочем, шел ли писатель в авангарде или плелся в обозе, он всегда был пленником своей группы и идеей своей группы. Одни замыкались в своем академическом credo, другие - в credo революционном: в конечном итоге и то и другое - шоры.
Чтобы развлечь Кристофа, Сильвен Кон предложил свести его в театры особого жанра - последнее слово парижской утонченности. Там показывались убийства, изнасилование, разные виды безумия, пытки, выколотые глаза, вспоротые животы, - короче, все то, что могло дать встряску нервам и удовлетворить скрытые варварские инстинкты ультрацивилизованной верхушки общества. Такие спектакли являлись приманкой для хорошеньких женщин и светских хлыщей, тех самых, что стойко высиживали часами в душных залах Дворца правосудия и слушали скандальные процессы, болтая, смеясь и поедая конфеты. Но Кристоф с негодованием отказался. Чем больше он знакомился с французским искусством, тем отчетливее ощущал запах, поразивший его с первых же шагов: сначала вкрадчивый, потом упорный, удушливый - запах смерти.
Смерть таилась всюду, под всей этой роскошью, за всей этой шумихой. Кристофу стало теперь понятно, почему он сразу проникся таким отвращением к некоторым из здешних шедевров. Не безнравственность отталкивала его. Нравственность, безнравственность, аморальность - что это значит? Кристоф никогда не изобретал себе нравственных теорий; он любил великих поэтов и великих музыкантов прошлого, которые отнюдь не были святошами; встречаясь с большим художником, он не спрашивал у него свидетельства об исповеди; скорее он мысленно вопрошал:
"Здоров ли ты?"
Здоровье - в этом все дело. "Если поэт болен, пусть полечится, говорит Гете. - А когда вылечится, будет писать".
Парижские писатели были больны; если же среди них попадался здоровый, он стыдился своего здоровья, скрывал его и старался приобрести какую-нибудь болезнь посерьезней. Болезнь их выражалась не в той или иной черте их искусства - в любви к наслаждению, в крайней вольности мысли, в склонности к разрушительной критике. Все эти черты могут быть - и бывали, смотря по обстоятельствам, - и здоровыми и нездоровыми; в них не заключалось зародыша смерти. Смерть таилась не в этих склонностях, а в самих людях, в том, как они любили, разрушали, критиковали. Кристоф тоже любил наслаждение, любил свободу. Он восстановил против себя общественное мнение родного городка, открыто защищая те самые идеи, о которых он слышал теперь из уст многих парижан, но в их устах эти идеи возмущали его. А ведь идеи были те же. Но только звучали они иначе. Когда Кристоф нетерпеливо сбрасывал иго великих мастеров прошлого, когда он шел войной на ханжескую эстетику и мораль, для него это не было игрой, как для здешних вольнодумцев, а серьезным, по-настоящему серьезным делом; и бунт свой он поднял во имя жизни, жизни плодотворной, чреватой будущим. А тут все сводилось к бесплодному наслаждению. Бесплодному. Бесплодие. В этом и заключалась разгадка. Бесплодный разврат ума и чувств. Великолепное, блиставшее остроумием и талантом искусство и, конечно, красивая форма, традиция красоты, сохранявшаяся нерушимой, несмотря на все чужеземные наслоения, - театр здесь был настоящим театром, стиль - стилем, драматурги знали свое ремесло, писатели умели писать, - словом, довольно красивый скелет искусства и мыслей, в прошлом доказавших свою мощь. Но только скелет. Звонкие слова, бряцание фраз, металлическое позвякивание идей, сталкивающихся в пустоте, игра ума, чувственный рассудок и рассудочные чувства. Все это служило лишь для эгоистического наслаждения. Все клонилось к смерти. Явление, подобное грозному уменьшению населения Франции, которое Европа безмолвно наблюдала и принимала к сведению. Столько ума и тонкости, столько чувств растрачивалось в постыдном духовном онанизме! А сами они этого не замечали. Они смеялись. И только их смех успокаивал Кристофа: раз эти люди еще умеют смеяться, значит, не все потеряно. Они нравились ему гораздо меньше, когда напускали на себя серьезность; и ничто его так не оскорбляло, как попытки писателей, видевших в искусстве только орудие наслаждения, выдавать себя за жрецов какой-то бескорыстной религии.
- Мы художники, - самодовольно повторял Сильвен Кон. - Мы творим искусство для искусства. Искусство всегда чисто; в нем все целомудренно. Мы исследуем жизнь как туристы, которым все служит развлечением. Мы гурманы редкостных наслаждений, вечные донжуаны, влюбленные в красоту.
- Вы лицемеры, - резко обрывал его Кристоф. - Простите, что я вам так говорю. Я считал до сих пор, что лицемерна только моя страна. В Германии мы лицемерно твердим об идеализме, преследуя собственную выгоду: мы воображаем себя идеалистами, а думаем только о себе. Но вы гораздо хуже: вы прикрываете словами "Искусство" и "Красота" (с большой буквы) свое французское сластолюбие или же говорите об Истине, Науке, нравственном Долге, а сами, как Пилат, умываете руки и не желаете знать, к каким последствиям приведут ваши возвышенные искания. Искусство для искусства?.. Великолепная вера! Но вера только для сильных. Искусство? Схватить жизнь, как орел хватает добычу, и, унесши ее ввысь, воспарить с нею в прозрачно-ясных просторах!.. Для этого требуются когти, широкие крылья и могучее сердце. Но вы - вы только воробьи, которые, найдя кусочек падали, тут же его кромсают и с писком вырывают друг у друга... Искусство для искусства?.. Несчастные! Разве искусство - негодная пажить, предоставленная нищим бродягам? Конечно, оно - наслаждение, и притом самое упоительное. Но покупается оно ценой ожесточенной борьбы, и лавры его венчают победу силы. Искусство есть укрощенная жизнь. Властитель жизни. Кто хочет быть Цезарем, должен иметь душу Цезаря. Вы же только театральные короли: для вас это роль, которую вы играете, сами в нее не веря. Есть такие актеры, которые входят в славу благодаря своему уродству, а вы пытаетесь превратить ваши уродства в литературу. Вы лелеете недуги своего народа, его страх-перед любым усилием, его любовь к наслаждению, чувственную философию, иллюзорный гуманизм - все, что изнеживает и расслабляет волю и отнимает у нее стимулы к действию. Вы ведете его в курильни опиума. И вы сами хорошо это знаете, но вы боитесь сказать: там тебя ждет смерть. Ну, а я утверждаю: где смерть, там нет искусства. Искусство - живительная сила. Самые честные из ваших писателей настолько малодушны, что даже когда повязка спадает с их глаз, они притворяются, будто ничего не видят. У них хватает бесстыдства говорить: "Это опасно, согласен, тут есть яд; но это так талантливо!" Все равно, как если бы в уголовном суде судья сказал о бандите: "Да, конечно, он негодяй, но он так талантлив!.."
Кристоф недоумевал: чем-то все-таки занята французская критика? Не то чтобы критиков было мало, - искусство кишело ими. Но сквозь это кишение уже не видно было самих произведений.
Кристоф не питал особенно нежных чувств к критике. Он даже не склонен был признавать полезным обилие художников, составляющих как бы четвертое или пятое сословие в современном обществе: он видел в этом примету эпохи, которая, устав, поручает другим заботу наблюдать жизнь, уполномочивает других чувствовать за себя. Тем более постыдной считал он неспособность смотреть собственными глазами даже на отражение жизни, потребность обзаводиться еще и посредниками, создавать отражения отражений, - словом, иметь критиков. Если бы еще эти отражения были верными! Но они отражали лишь переменчивые настроения окружающей толпы. Совсем как зеркальные стекла в музеях, где отражаются вместе с расписным потолком лица любопытных, пытающихся его рассмотреть.
Было время, когда критики пользовались во Франции безграничным авторитетом. Публика преклонялась перед их приговорами; она готова была ставить их выше самих художников, как художников умных (два эти слова в ее глазах, по-видимому, не сочетались). Потом критики невероятно расплодились, авгуров стало слишком много - в ущерб ремеслу. Когда каждый утверждает, что он единственный обладатель единой истины, никому нельзя верить; в конце концов они сами перестают себе верить. Пришло разочарование, и, по свойственной французам привычке, они сразу ударились в противоположную крайность. Только что они уверяли, что знают все, а теперь стали уверять, что ничего не знают. И они гордились этим, даже щеголяли. Ренан внушил этому мягкотелому поколению, что всего изящнее, утверждая что-то, сейчас же опровергнуть это или, по крайней мере, подвергнуть сомнению. Он был из тех, о ком апостол Павел говорил: "У них всегда "да, да", потом же "нет, нет". Вся французская аристократия духа восторгалась этим символом двоедушной веры. В нем проявились ленивый ум и слабый характер. О художественном произведении больше не говорили, что оно хорошее или плохое, правдивое или лживое, умное или глупое. Говорили: