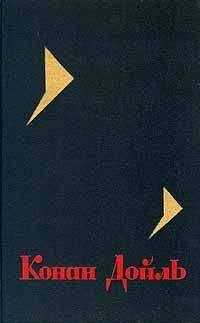Геннадий Гор - Факультет чудаков
Базиль долго стоял возле них и думал:
«Разбудить или нет? Что я скажу им? „Ребята, я вот хочу бежать с завода. Побежим вместе! Я больше не могу один. Довольно, один я набегался“. Что они могут ответить мне? Выругают и перевернутся на другой бок… Скажут еще, пожалуй: „Тебе, может, есть куда бежать, а нам куда? В болото? Тоже бегун выискался…“ Они будут правы, бежать им некуда». Вздохнув, Базиль отошел от них.
«Хватит! — сказал он себе. — Хватит, натешился. Наметил крестов. Учинил заговор!»
Потом он лежал, продолжая говорить с собой иронически: «Скажите, пожалуйста! Я устал быть одиноким Мне понадобились товарищи! Но когда же я был одиноким? Десять лет назад со мной были мои мечты об усыновлении сироты Базиля Павлом Сергеевичем Челищевым, и тогда же со мной неразлучно было искусство… Скоро барское усыновление сгинуло, но зато появился и был со мной Шихин, тоже усыновитель… Потом он меня прогнал… Посещали ли меня мечты о мести? Нет, не посещали. Мечты о чистом и беззаветном служении искусству тоже постепенно выдохлись. Зато на смену им появились трезвые рассуждения о карьере, карьере во что бы то ни стало, и я стал ждать удобного случая. Я не чувствовал себя одиноким: со мной были уже не пустые мечты, а практические соображения и точные расчеты. Затем я их привел в исполнение. Кончилось крахом. Я сделал еще попытку. Что из этого получилось? То, что я не сплю по ночам. Отчего же не сплю я? Оттого ли, что мое положение безнадежно, что, как видно, я зря уповал на Берда и никакой мне карьеры не сделать здесь, а использует он меня до конца на проклятой работе и скажет: пошел с богом… на паперть или в могилу!.. Впрочем, не сразу в могилу и не на паперть, а я еще могу сыграть шутку… Я использую крепостническую пунктуальность Павла Сергеевича. Я вернусь к нему инвалидом, ни к чему не пригодным, и Павел Сергеевич, верный своим справедливым принципам, будет обязан кормить меня до самой смерти и любоваться моим веселым видом!.. Все равно что усыновит меня! Право, это остроумно и, пожалуй, так оно и будет. — Базиль засмеялся. — Вот и опять я не одинок. Со мной снова моя старая идея об усыновлении…»
Базиль вздрогнул на нарах. Он что-то припомнил, лицо его выражало страдание, но он продолжал казнить себя: «…Кстати, идеи… У меня ведь бывали и не бесполезные мысли. Разве плохая мысль — райское средство? Правда, его я не сам выдумал. Но сам ли я выдумал, или не сам — я решил его применять. Впрочем, эта идея еще безобидна… по сравнению с более поздней и уже бесспорно моею собственной. Моя теория справедливости! Нынче она мне не в бровь, а в глаз!.. В каменоломне рабочим живется худо, работа у них тяжелая. Шлифовальщикам колонн в Петербурге живется получше, работа у них значительно легче. Это несправедливо. Стало быть, следует строже взыскивать со шлифовальщиков, по крайней мере хоть строже взыскивать, а то каменотесцам будет обидно. Раз нельзя уравнять по лучшему положению, придется сравнять по худшему…»
Базиль громко захохотал (как когда-то Шихин), не заботясь о том, что соседи на нарах могут проснуться. Но никто не проснулся. Оба соседа, справа и слева, спали, укрывшись всегда с головой. Для Базиля и то было счастьем, что он не видел их лиц, а только заплаты на их армяках.
«…Ежели теперь применить мою справедливую теорию, — продолжал издеваться Базиль, — то придется отравить всех рабочих в России, чтобы никому не было обидно. Чтобы мне первому было не обидно!..»
Когда Базиль засыпал, его последняя мысль была чуть ли уж не всерьез:
«…Отравить всех, чтобы мне было не обидно!»
ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ ГЛАВА
Утром Базиль проснулся раньше побудки. Проснулся от смеха — не своего, а чужого: где-то неподалеку смеялись дружно и зычно.
Базиль поднял голову, искренно пораженный: здесь не такое было место, чтобы весело скалить зубы. Базиль поглядел в ту сторону, где спали четверо белобрысых. Так и есть, смеялись как раз они. Молодые, здоровые, они гоготали от всего сердца, свободно развалившись на своих нарах, закинув жилистые руки за голову.
«Они надо мной потешаются, — подумал Базиль, — они видели ночью, как я ходил, мелком метил и над ними стоял, а теперь вспоминают».
Но парни и не оборачивались в его сторону, они преспокойно лежали себе, глядя в потолок: скажут друг другу несколько слов и опять загогочут дружно. Базиль успокоил свою мнительность и принялся ждать с интересом, что будет дальше.
Действительно, происшествие было странное. Немного погодя все рабочие, в том числе и Базиль, поднялись, оделись, поели, собрались уходить на работу, а четверо белобрысых парней все лежали себе, нимало не беспокоясь, и никто, казалось, кроме Базиля, не обращал на них внимания. Но все же нашелся, должно быть, такой, что доложил мастеру. Прибежал мастер, принялся ругать парней, ткнул одного кулаком в скулу, — парни и ухом не повели. Народ стал собираться к их нарам. Базиль подошел вместе с другими, смотрел и слушал, но ничего не понимал: бессмысленная ругань мастера ровно ничего ему не объясняла.
Вот мастер принялся отгонять всех от нар, ругал уже не парней, а тех, кого отгонял от парней, и наконец самолично погнал всех на работу. И все пошли. Все, кроме тех четырех. Они остались, потешаясь над суетливостью мастера, над тем, что он на ходу совал кулаком в чью-то шею, затылок и все попадал в воздух, потом изловчился и угодил; но уже в другой затылок.
Вышли на двор. Шагая со всеми, Базиль начинал понимать (как часто он что-нибудь важное понимал не сразу). Для подтверждения догадки он обратился с вопросом к своему наводчику. Тот равнодушно ответил, едва шевеля губами:
— Не хотят.
— Чего не хотят? — добивался Базиль.
— Травиться, — буркнул наводчик.
Базиль ахнул и завернул обратно, бегом в барак.
— Куда? — кричал ему вслед мастер. — Куда, сукин сын?
Забежав в барак, Базиль прокричал еще с порога:
— Ребята!!
И, подбежав к ним, едва выговорил от волнения и каким-то умоляющим тоном:
— Ребята, бежим вместе!
Парни захохотали.
Сейчас уже и в самом деле они засмеялись над ним, — должно быть, он был смешон со своим выкриком, со своим неожиданным предложением.
Базиль отпрянул, и это было так же смешно. И над этим захохотали парни.
— Я хотел с вами, — растерянно сказал Базиль. — Чего смеяться?
Можно было ожидать, что они опять загогочут. Но парни, как сговорившись, все четверо поглядели на Базиля вполне серьезно, и один сказал даже строго:
— Чего не смеяться, пока можно? Завтра вот отобьют печенку, так не очень-то посмеешься.
Другой потянулся и сказал с упоением:
— Ух ты, завтра! Чего только будет!
— А чего не будет? — спросил третий.
Четвертый был самый младший. Он сказал наставительно:
— То будет, что, может, нас не будет.
— Что ж, — сказал первый, обращаясь к Базилю, — если того же себе желаешь, ложись с нами рядом. Можно ему с нами, ребята?
Ребята захохотали.
— Ложись! — скомандовал старший.
Базиль послушно взобрался на нары.
— Только помни, — сказал старший, — бежать мы никуда не побежим. Так вот и будем лежать…
— Так ему обиднее, понимаешь, — сказал второй.
— Злее, значит, — пояснил третий.
— Кому? — спросил Базиль.
— Берду. Мы лежим, а ему берданку спирает. Эх, скажет, не хотят работать, сволочи!
Парни оживились, и каждый стал думать вслух, представляя злобу хозяина.
— Уж мы ему досадим!
— Он-то на нас рассчитывал!
— Нас бы ему надолго хватило.
— Вот мы какие!..
— Чего толковать, здоровые!
Они с восхищенном оглядывали друг друга, напруживали руки, грудь и важно откашливались.
— Вы — братья? — спросил Базиль, совсем освоившись.
— Не, — ответили все в один голос.
— Почему же вы других не подговорили?
— Куда этим дохлым! — презрительно сказал старший. — Им обещали пенсию дать, когда работу закончат.
— Лешего им дадут! — сказал младший.
Базиль лег поудобнее и закинул руку за голову.
— Да, — сказал он задумчиво, — пенсию не дадут.
— Пенсиев нам и не надо. Мы все здоровые, — сказал младший. — Нам подавай другое…
— Чего другое?
— А вот, чтобы мы все здоровые были.
Базиль заволновался.
— Но ведь вы говорите сами, изобьют завтра? Может, сразу насмерть… Как же тогда?
Парни захохотали. Их рассмешило его недоумение.
И Базиль уже не обижался, напротив, он восхищался; он искренно любовался отчаянными парнями, и ему казалось, что выход найден: стоит положиться на них, и все будет обстоять очень просто.
Он жалел об одном лишь — что он не умел шутить и никогда не умел веселиться. А как бы это теперь пригодилось; он породнился бы с ними, они бы признали его своим.