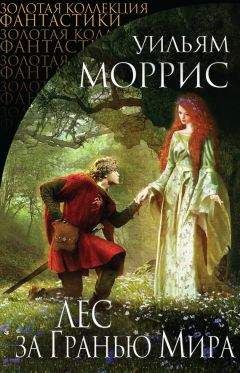Коллектив авторов - Сцены частной и общественной жизни животных
Анна нашла его совершенно очаровательным; правда, дело портили короткие сухощавые ручки, но кто бы стал обращать внимание на этот легкий изъян при виде его румянца, обличавшего чистую кровь, которая, казалось, была сродни солнцу и наливалась яркой краской под сверкающими лучами этого светила?[610] Вскоре Анна поняла, что имел в виду ее отец; ее глазам предстало одно из тех таинственных зрелищ, которые остаются незамеченными в этом страшном Париже, столь полном и столь пустом, столь глупом и столь ученом, столь задумчивом и столь легкомысленном, но всегда куда более фантастическом, чем многоумная Германия, и сильно превосходящем всю ту гофманиаду, которую сумел разглядеть важный советник берлинского апелляционного суда[611]. Воистину, мастер Блоха и его микроскопическое стекло не могли бы сравняться с месмерическими сивиллами[612], которые в ту минуту предоставили свои услуги в распоряжение прелестной Анны; сделали они это по мановению волшебной палочки той единственной феи, что у нас еще осталась и что носит имя Экстазиада, – той феи, которой мы обязаны нашими поэтами и нашими прекраснейшими грезами и которую так стремится компрометировать Академия наук (секция медицины).
III. Новое искушение святого АнтонияТри тысячи окон стеклянного дворца отражали лунный свет; так солнце на закате разжигает пожар в окнах старого замка и наводит страх на путников и земледельцев. Кактусы благоухали, ванильные деревья утопали в ароматных облаках, цветы волкамерии, эти ботанические баядерки, распространяли винные флюиды, азорские жасминовые кусты щебетали, магнолии пьянили, дурман возвышался горделиво, как персидский шах, а неистовые китайские лилии, в десять раз превышавшие по высоте наши туберозы, громыхали в этой накаленной атмосфере, словно пушки Дома инвалидов, поглощая и всасывая все прочие запахи с такой же жадностью, с какой банкир присваивает себе чужие капиталы. В этом сияющем лесу, где звучали безумные хоры, голова шла кругом, точь-в-точь как в Опере, когда Мюзар взмахом своей палочки увлекает парижан любого возраста и любого пола в бешеный галоп среди вихрей света и музыки[613].
Принцесса Финна[614], одна из прекраснейших дочерей волшебной страны Лас Фигерас, продвигалась вглубь долины Опунцистан[615], где похитители принца устроили его резиденцию, и по влажной гладкой мураве стремилась навстречу Жарпеадо, которому на сей раз невозможно было ее избежать. Глаза этой соблазнительницы, которую правительство, исполняя роль подлой сводни, подослало к принцу, точно какую-нибудь представительницу рода Каксен-Сота[616], блистали, точно звезды, а с собою эта хитрая интриганка, новая Екатерина Медичи[617], захватила целый эскадрон красивейших и опаснейших придворных дам.
Издали завидев принца, она подала знак. По этому знаку раздалась в благоуханной ночной тиши музыка, более всего напоминавшая скерцо королевы Маб из симфонии «Ромео и Джульетта», где великий Берлиоз раздвинул привычные границы музыки, предоставив слово Цикадам, Кузнечикам и Мухам, и воспроизвел величественный голос природы, который звучит в полдень на лугу, подле ручья, журчащего среди серебристых песчаных берегов[618]. Однако по сравнению с той музыкой, которая доносилась до внутреннего слуха Анны, восхитительная и нежная музыка Берлиоза была все равно что громогласный контр-тромбон[619] по сравнению с виолончелью Батты, повествующей о любви и навевающей самые воздушные грезы нежным дамам, чье забытье внезапно прерывает трубный звук, издаваемый каким-нибудь старым любителем нюхательного табака (немедленно вон!).
Прежде свет оборачивался запахом, а теперь обернулся музыкой, из деликатной предупредительности к этим прекрасным существам, которые сами рождаются из света, делаются светом и растворяются в свете. Переплетение запахов и звуков призвано было привести в экстатическое состояние принца Жарпеадо – и какого принца! принца-жениха, владеющего всем Опунцистаном (отсылаем за подробностями к рекламным объявлениям); тут-то Финна, сия правительственная Клеопатра, скользнула к ногам Жарпеадо, а между тем шесть девственниц начали танец, настолько же сильно превосходивший качучу и испанское халео[620], насколько тихая музыка быстролетных духов превосходила своим позвякиванием божественную музыку Берлиоза. Танец был на удивление пристоен, ибо исполняли его девственницы; но в том-то и заключался адский гений этого национального танца, унаследованного танцовщицами от их предков, а теми – непосредственно от феи Арабески. Сей танец, разом и целомудренный, и возбуждающий, производил впечатление, совершенно сходное с тем, какое производят хороводы жительниц Кампидано, греческой колонии в окрестностях Кальяри. (Вы бывали на Сардинии? Нет? Напрасно. Стоит побывать хотя бы ради того, чтобы полюбоваться танцем дев, украшенных цехинами[621].) Вы беспечно смотрите на этих невинных юных особ, которые, взявшись за руки, кружатся с самым целомудренным видом; а между тем хор их столь сладострастен, что английские консулы, принадлежащие к секте святых[622], те, что никогда не смеются, даже в парламенте, удаляются, не в силах вынести этого зрелища. Так вот, жительницы Кампидано, что на острове Сардиния, как бы совершенны ни были их танцы в отношении целомудрия и сладострастия, так же сильно уступают танцовщицам из свиты Финны, как портрет кисти Дюбюфа[623] – дрезденской Мадонне Рафаэля. (Речь не о живописи, а о выразительности.)
– Неужели вы хотите меня убить? – воскликнул Жарпеадо, превосходивший в скромности и патриотизме даже английского консула.
– Нет, свет моей души, – возразила Финна голосом, столь же приятным для слуха, сколь приятны сливки для языка Кошки, – разве ты не знаешь, что я люблю тебя, как земля любит солнце, и любовь моя так самоотверженна, что я хочу стать твоей женой, хоть и знаю, что от этого умру!
– Но разве ты не знаешь, – отвечал Жарпеадо, – что я родом из страны, где касты целомудренны и живут по заветам Бога, точь-в-точь как брамины в Индустане. Брамину не так отвратительны парии, как мне – прекраснейшие создания, рожденные в твоем ужасном краю под названием Лас Фигерас, где так холодно. Твоя любовь леденит мне сердце. Прочь, подлые баядеры!.. Узнайте мою верность, и пускай на этой земле власть принадлежит вам, пускай вы владеете бесчисленными сокровищами, я скорее умру от голода или от любви, чем породнюсь с тобой или с тебе подобными. Чтобы Жарпеадо взял в жены особу твоего рода, который относится к моему, как негритянка к белому человеку, как лакей к герцогине! Такие браки заключают только французские дворяне. Та, которую я люблю, далеко, очень далеко; но либо она прилетит ко мне, либо я умру без любви в чужом краю…
Тут раздался крик ужаса, заглушивший ответ Финны; она приказала: «Спасите принца! Пусть верноподданные массы заслонят его обожаемую особу от опасности!»
IV. В которой мы узнаем характер Гранариуса по его незнакомству со штрипкамиТут у Анны от ужаса кровь заледенела в жилах: она увидела два медно-золотистых глаза среди бесчисленного скопища волос. Чудовище приближалось; оно походило на двойную тысячехвостую комету.
– Вольвокс! Вольвокс! – закричали все кругом.
Вольвокс, точно холера в 1833 году[624], на ходу поглощал все живое. Кучера гнали во весь опор, матери прятали детей, семьи скитались в поисках пристанища. Вольвокс уже готовился пожрать принца, когда Финна заслонила его собой: несчастная спасла Жарпеадо ценой своей жизни, но он остался холоден, точно Конахар после того, как его приемный отец принес ему в жертву собственных детей[625].
«Да! это настоящий принц, – подумала Анна, потрясенная царственной бесчувственностью. – Женщина уронила бы слезу над телом Мужчины, который пожертвовал ей своей жизнью, даже если бы его не любила».
– Так должен был умереть я, – томно произнес Жарпеадо, – умереть ради той, кого люблю, умереть у нее на глазах, отдать ей свою жизнь… Когда мы рождаемся на свет, знаем ли мы, что получаем в дар? тогда как во цвете лет мы хорошо знаем цену тому, что в дар принимаем…
При этих словах Анна мысленно примирилась с принцем.
«Этот принц, – сказала она себе, – любит, как простой натуралист».
– Музыка ли ты, благоуханье ли, свет ли, о солнце моего отечества? – вскричал принц, впавший в состояние столь экстатическое, что Анна испугалась, не заболел ли он нервной горячкой. – О моя Кактриана, где среди пурпурно-алого моря отыскал бы я какую-нибудь прекрасную Ранагриду, преданную и любящую, – о моя Кактриана, нас разделяют огромные пространства… А все то, что безнадежно разделяет влюбленных, зовется бесконечностью…
Эта мысль, такая глубокая и такая меланхолическая, так потрясла несчастную дочь профессора, что по ее телу пробежала судорога; девушка поднялась, пересекла Ботанический сад, вышла на улицу Кювье и с кошачьим проворством взлетела на крышу дома под номером 15. Жюль в эту минуту как раз оторвался от работы, положил перо на край стола и сказал сам себе, потирая руки: «Если моя милая Анна захочет меня подождать, через три года я получу крест Почетного легиона и стану помощником профессора, ибо начинаю кое-что понимать в энтомологии, а если нам удастся наладить разведение опунциевой кошенили в Алжире… это будет большая победа, черт возьми!»