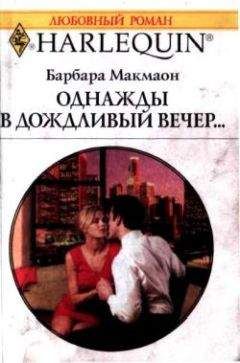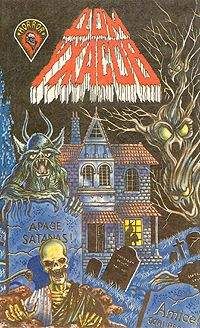Йозеф Томан - Дон Жуан, Жизнь и смерть дона Мигеля из Маньяры
Вот человеческая рука, которая трудится, которая нужна, которая не может быть лишней!
Моряк рассказывает глухим голосом:
- Нынче ночью я проиграл в кости последнее мараведи.
- И не плачешь, - заметил Мигель. - Горе мало сокрушило тебя.
- Причем тут горе? Я зол! Зол так, что хоть кричи, чтоб не лопнули легкие от злости...
- Ты искушал бога, брат, и он вознегодовал на тебя. На лбу твоем знамение легкомыслия и позора. Пойдем, я помогу тебе, - встал Мигель. - Не оставлю тебя погибать столь жалким образом. Я тебя поведу.
И он привел моряка в монастырь Милосердных. Отдал ему свою утреннюю похлебку и миску кукурузной каши. Моряк ел с жадностью.
- Не играй больше в кости, брат, - попросил Мигель.
- Да мне и не на что больше играть, - ответил тот с набитым ртом.
- А если б было?
Моряк задумался.
- Ну, тогда... Не знаю, брат.
Мигель было нахмурился, но тотчас овладел собой. Учись терпеливости! сказал он себе. Тебе самому понадобилось куда больше времени, чтобы ступить на путь добра. Матрос поблагодарил его, вытер губы тыльной стороной руки и ушел.
В следующие дни Мигель приводил к себе других несчастных, кормил их и беседовал с ними.
Постепенно склад, где он обитал вместе с крысами, сделался прибежищем голодных. Кучками брели они за Мигелем к воротам монастыря, рассаживались на старом хламе, глотали похлебку и, выслушав ласковые речи, уходили.
Уходите, как пришли, с грустью говорил им мысленно Мигель. Желудок ваш наполнился, но беды свои вы по-прежнему несете на плечах. Никто не обращает внимания на язвы ваши. Никто не лечит ваши раненые и больные члены. Никто не избавил вас от страданий. И возвращаетесь вы в ваши сырые берлоги, где раны ваши воспаляются...
Все чаще приходят к нему недужные, голодные оттого, что не могут работать.
И это - люди! Одноглазые, полуслепые, с глазами, залепленными гноем, испещренными кровавыми прожилками, на лицах и шеях - болячки, тела испятнаны лишаями и сыпью. Хромые, параличные на костылях, оборванные, истощенные недобровольным постом и тяжелой работой, ученики, которых держит впроголодь хозяин, батраки из окрестных поместий, бежавшие в город от голода и от кнута, старики и старухи, о которых некому позаботиться, нищие, изувеченные в войнах - отверженные, потерпевшие крушение, изгнанные из жизни...
И это - люди, сотворенные по образу божию!
Однажды Мигель принял одного нищего и уложил его на свою постель. Сам же лег спать на земле рядом.
Это был обломок человека, скелет, обтянутый кожей в чирьях, нищий, которого сотоварищи его в течение двух дней возили на тачке к воротам всех севильских больниц. И отовсюду их гнали. Тогда его привезли в монастырь Милосердных, и Мигель взял его.
* * *
- Ты переусердствовал, позволь сказать тебе прямо, брат настоятель, неприязненно говорит Мигелю старший из монахов. - И в конце концов заразишь монастырь болезнями...
- Не могу же я оставить человека умирать.
- Ты делаешь более того, чем это угодно богу, - хмурится старик, и остальные монахи согласно кивают, ропща. - Никогда у нас не делали ничего подобного.
Мигель просит позволения ухаживать за больными в складе. Он не будет вводить их в монастырь. А в складе они никому не помешают. Там им можно лежать... - Разрешение было дано неохотно, но все же дано. Мигель горячо благодарил братьев.
Каждый день приходили те, кто мог передвигаться на своих ногах. Насытившись, уходили.
- Куда вы идете? - спрашивал Мигель. - Будете ли думать о боге?
Они молчали в ответ, пока кто-нибудь не произносил:
- Есть на свете другие вещи, кроме бога, брат. Немного веселья, немного развлечения - не грех.
- Прочь с глаз моих! - вскипал Мигель. - И больше не приходите сюда! Завтра я вас не впущу. Ни куска хлеба не дам, ни глотка воды. Мне стыдно за вас. Ступайте!
И падал потом на колени.
- Прости мне, господи! Простите, люди, за то, что я был зол к вам! Приходите завтра. Я отдам вам все, что есть у меня. А ты, господи, даруй мне терпение, чтобы смог я привести этих людей в стан твой...
И когда они приходили на следующий день, он встречал их со смирением и просил отказаться от легкомысленного образа жизни.
* * *
Постепенно Мигель сживается со своими питомцами. Подолгу беседует с каждым из них, узнает их горести и мечты.
Есть среди них люди божий, душой белее голубиного пера - это благодарные люди, за тарелку супа они шепчут молитву; но есть закоренелые, принимающие еду с неприкрытым протестом. И в благодарность осыпают дающего насмешками, инстинктивно ненавидя его, и только что не отталкивают руку помощи.
- Ладно, приму от тебя, монах, но это уж последний раз, понял? Чего ты обо мне хлопочешь? Кто тебя просит? Не желаю я ничьего милосердия, и твой сострадальный взгляд только бесит меня...
И оскорбленно уходит одариваемый - но завтра, гонимый голодом, незаметно смешивается с остальными. Есть тут и ловкие мошенники; тронутые ненадолго увещеваниями Мигеля, они рассказывают ему о своих хитрых уловках.
Послушайте человека, одетого в лохмотья:
- Я - библейский нищий. Это значит, монах, что я - образцовый горемыка. А бедность моя исчисляется восемью детьми, мать которых умерла. Живу я в сарае под стенами за Санта-Крус. И когда веселящиеся дамы возвращаются в город с тайных свиданий, я колочу своих ребятишек, чтоб ревели. Тогда дамы останавливаются и, стремясь искупить свою неверность, бросают моим пострелятам реалы. Этим я кормился два года - и неплоха кормился. Так надо же вмешаться черту! Прибегает раз ко мне стражник и говорит, мол, его милость герцог де ла Бренья прослышал о моем бедственном положении да о моих детишках и завтра явится, чтоб осчастливить меня. Я и говорю себе - нет, тут пятью реалами дело не обойдется, он больше даст. И чтоб вернее было, взял я напрокат еще пятерых сопляков - у знакомых. И представил сеньору герцогу всех тринадцать. Они вели себя великолепно - ревели, визжали, клянчили так, что камень бы дрогнул. И как ты думаешь, сколько я заработал на своих тринадцати несчастных детках? Двадцать дукатов! Ей-богу, двадцать! Я думал, от радости с ума сойду.
- И что же ты сделал с такой кучей денег? - спросил Мигель.
Тринадцатикратный отец обратил к нему свои выцветшие глаза, плавающие в пьяных слезах.
- Пропил, душа моя!
- Какой срам! - рассердился Мигель. - Позор тебе, не отец ты, а ворон! А что же дети?
- По миру пошли, - уныло ответил тот, но вдруг выпрямился. - Да ты не бойся за меня и за них! Я - библейский нищий, а библейская нищета обязательно должна быть. Я на ней еще кое-что заработаю. Если б ее не было исчезла бы из мира и благотворительность, а ведь ты сам не веришь, чтобы она могла совсем испариться, а? Скажи-ка?
Мигель молча молился за эту лукавую душу.
- Слушай, - прошептал ему заботливый папаша, - не знаешь, может, есть еще какой герцог, который сжалился бы над моими тринадцатью детками?
Так, среди страдающих и мошенников, разговаривая с людьми чистого сердце и лгунами, познает Мигель противоречие человеческой натуры.
Он понимает - мала молиться и каяться.
Надо отречься от самого себя, выйти из своего мирка ко многим, заменить бездеятельность делами.
Надо не только указывать перстом пути к богу, но приложить руки и что-то сделать для бедняков!
* * *
Альфонсо озирается в затхлом, темном помещении, и постепенно глаза его свыкаются с серо-зеленым полумраком. На койках, сбитых из неструганых досок, лежат несколько больных, которых привел сюда Мигель. Наступившую тишину нарушил стон, потом - молитвенный шепот:
- Зачем ты родила меня, мать? Чтоб всю жизнь меня побивали камнями, чтобы все издевались надо мной за то, что я безобразен и унижен, чтоб мне вечно дрожать в подземелье, а когда выберусь из логова своего на солнце чтоб меня повергали во прах и топтали, как топчут бродячих собак копытами лошадей?
- Кто это? - шепотом спрашивает Альфонсо.
- Даниэль.
- А дальше? Что известно тебе о нем?
- Разве мало того, что ты слышал? Разве мало того, в чем он сам упрекает жизнь? Разве недостаточно знаем мы о человеке, если слышим его жалобы, видим, что он бездомен, не имеет ни семьи, ни друзей и что, кроме страданий, уродливого облика и чахотки, нет у него ничего, ничего? А тот, рядом с ним, - это Бруно. И мне достаточно того, что каждую ночь я слышу его тихий плач. Он был подвергнут допросу под пыткой, а затем его принесли сюда, потому что у него нет никого на свете. У него порваны все сухожилия, и он не в состоянии двигаться.
И опять тишина, заполненная шелестящими всхлипываниями, сквозь которые временами прорывается громкая мольба к тому, кто - призываемый чаще всех всегда отвечает загадочным молчанием.
- Ты не поверишь, друг, сколько бедствий на свете! - сказал Мигель, беря Альфонсо под руку. - Я понятия об этом не имел, и только здесь увидел, до чего же прогнил этот мир. Мы знали лишь его красочную, лишь привлекательную оболочку. Смотри: все, кто лежит здесь, хорошие люди. Ни одного из них нельзя назвать преступником. Многие из них больны с детства. Многие не знают даже примеров для понятия "радость", оно остается для них неизменно недостижимой мечтой. Что такое я рядом с ними? Злодей, преступник, убийца... Моя вина больше всех, я - самый худший из них, на одних моих плечах - больше грехов, чем на целой толпе этих несчастных, взятых вместе. Зачем ты пришел, Альфонсо?