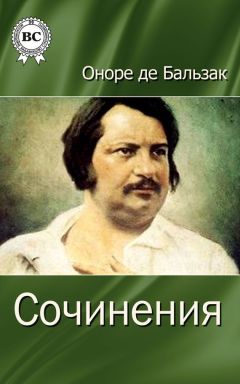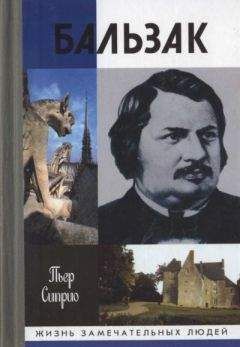Оноре де'Бальзак - Сочинения
Старая девица считала, что имеет права над Калистом, сообразно с этим и вела себя по отношению к нему и зорко следила за ним. Хотя она, как все старые люди монархического правления, смотрела снисходительно на сердечные похождения, но зато не выносила революционного духа. Так что Калист мог своими романами с бретонками только выиграть в ее мнении, но вдайся он в новшества, он сразу упал бы в ее глазах. Мадемуазель де Пен-Холь наскребла бы откуда-нибудь денег, чтобы задобрить обесчещенную им девушку, но, увидев его в тильбюри или услыхав, что он поговаривает о поездке в Париж, она сочла бы Калиста мотом. Застань она его за чтением безбожных книг или журналов – кто знает, на что она была способна. По ее мнению, новые идеи – это конец земельной собственности, это разорение под фирмой каких-то улучшений и систем, которые в результате приведут владельцев к залогу имений. Только путем благоразумия, говорила она, можно себе составить состояние. А для этого надо хорошо управлять своим имением, т. е. складывать в амбары гречиху, рожь и коноплю, а затем ждать хороших цен и, не боясь прослыть алчной, сидеть на своих мешках. До сих пор ее теория всегда приводила к блестящим результатам; вероятно, потому общественное мнение признало ее очень ловкой и хитрой. В действительности она была просто глупа, но такого лестного отзыва удостоилась благодаря своей чисто голландской аккуратности, своей кошачьей осторожности и, наконец, благодаря настойчивости, достойной духовного лица: это последнее качество особенно упрочило за ней репутацию ума.
– Увидим ли мы сегодня г-на дю Хальга? – спросила старая девица, снимая свои вязаные шерстяные митенки после обмена приветствий.
– Как же, мадемуазель, я видел его: он водил свою собачку погулять, – отвечал священник.
– Ага! Значит, наша мушка будет сегодня в полном составе. Вчера нас было только четверо.
Услышав слово «мушка», священник встал со своего места и направился к шкафчику. Из ящика он вынул маленькую соломенную корзинку с костяными кружками, которые от двадцатилетнего употребления стали желтыми, как турецкий табак, и карты, до того засаленные, что, вероятно, такими же играют таможенные служащие в С.-Назере. Аббат сам разложил на столе кружки для каждого игрока, поставил корзину около лампы и проделывал все это с детской поспешностью, и видно было, что ему это случалось делать не впервые. Сильный, по-военному, стук в дверь вдруг нарушил безмолвие старинного замка. Маленький лакей мадемуазель де Пен-Холь с важным видом пошел отворять дверь. Вслед затем на полутемном фоне двери показалась высокая, худая фигура шевалье дю Хальга, отставного капитана судна, которым командовал адмирал Кергаруэт.
– Скорее, шевалье, – закричала мадемуазель Пен-Холь.
– Жертвенник уже готов, – сказал священник.
Шевалье отличался очень слабым здоровьем и потому постоянно носил от своих ревматизмов фланель, на голове черную шелковую шапочку и, кроме того, спенсер, который предохранял его драгоценную грудь от ветров, которые сразу иногда охлаждают атмосферу в Геранде. В его руках всегда была трость с золотым яблоком в виде набалдашника: он ей отгонял собак, которые имели дерзость ухаживать за его собачкой. Этот господин, теперь мелочный, как женщина, старавшийся обойти всякое встречающееся ему на пути препятствие, говоривший постоянно тихим голосом, чтобы сохранить уцелевшие остатки его, считался в свое время одним из самых ученых и храбрых морских офицеров. Он пользовался большим уважением судьи Суфферена и был удостоен дружбы графа де Портандюэр. Впрочем, лицо его, все покрытое шрамами от ран, достаточно ясно говорило о подвигах капитана. А теперь, увидев его, нельзя было бы поверить, что его зоркое око видело все далеко вокруг, что этот бретонский моряк не имел себе соперников в храбрости. Он не курил, не употреблял в разговоре бранных слов и своею кротостью и спокойствием походил на молодую девушку; за своей любимицей, собачкой Тизбе, он ухаживал так умело и заботливо, как истая старая барыня. Здесь сказывалась его прежняя галантность к женщинам. Сам он никогда ничего не рассказывал о своих славных деяниях, которые вызвали восхищение графа д’Эстенга. Хотя он теперь выглядел совершенным инвалидом, двигался так осторожно, как будто с каждым сделанным шагом ему угрожала опасность раздавить под своими ногами яйца, хотя он постоянно жаловался то на холодный ветер, то на палящий зной солнца, то, наконец, на сырой туман, тем не менее, его белые зубы с красными деснами красноречиво протестовали против его болезни, стоившей ему к тому же очень дорого, так как, благодаря ей, он должен был есть непременно четыре раза в день и не как-нибудь, а очень сытно. Фигура его была крепкая, хотя худая; как и фигура барона, она состояла из одних костей, обтянутых кожей, желтой, как пергамент и крепко обтягивающей кости, точно кожа арабского скакуна, блестящая на солнце. Цвет лица у него был темно-бурый и стал таким после его путешествий в Индию, откуда он не привез никаких впечатлений, никаких новых воззрений. В свое время он эмигрировал, потерял состояние, потом получил крест Св. Людовика и пенсион в две тысячи франков, вполне заслужив его своей службой и получая его из кассы моряков-инвалидов. Когда-то он служил в морском флоте в России, до тех пор, пока император Александр не вознамерился заставить его воевать с Францией; тогда он подал в отставку и поселился в Одессе с герцогом Ришелье, с которым и вернулся на родину; герцог выхлопотал ему пенсион, как славному представителю старинного бретонского флота. После смерти Людовика XVIII, т. е. приблизительно вскоре после того, как шевалье дю Хальга вернулся в Геранду, его назначили городским мэром. Священник, шевалье и мадемуазель де Пен-Холь пятнадцать лет подряд проводили вечера в отеле дю Геников, куда нередко собирались и другие дворяне из города и окрестностей. Дю Геники были во главе С.-Жерменского предместья этого городка и к ним не имело доступа ни одно должностное лицо, посланное новой администрацией государства. Уже шесть лет, как священник начинает усиленно кашлять за обедней при щекотливых словах: Боже, спаси короля! Вот в каком положении была в Геранде политика.
Мушка – это игра, в которой играющим сдают по пять карт, а шестую открывают. Открытая карта определяет козыри. При всякой сдаче играющий может по желанию пасовать или принять участие в игре. В первом случае он проигрывает только свою ставку, так как пока в корзине нет ремизов, каждый играющий вносит небольшую сумму. Если играющий принимает участие в игре, то он должен взять взятку, стоимость которой является сообразно со ставкой: если в корзине набралось пять су, то взятка оценивается в одно су. Если он взятки не возьмет, то он попадает в мушку, т. е. он должен заплатить всю ставку, так что при следующей сдаче содержимое корзины значительно увеличивается. Все мушки записываются, и жетоны, которыми производится временная расплата, складываются в корзину, причем жетоны, означающие более крупную стоимость, кладутся раньше. Те играющие, которые спасовали, тоже сбрасывают карты, но это не идет в расчет. Карты, оставшиеся после сдачи, раздаются играющими, как и в экарте, но в мушке соблюдается очередь. Все берут столько карт, сколько хотят, так что может случиться, что карт хватит только на двух играющих. Открытая карта принадлежит сдававшему, т. е. последнему в очереди: он имеет право обменять на нее какую-нибудь свою карту. Особенно большое значение имеет одна карта, под названием Мистигри: валет треф. Игра эта, очень в сущности простая, не лишена занимательности. В ней может проявиться у игроков свойственная людям алчность, и тонкая дипломатия, и выразительная игра лица. В замке дю Геников играющие брали по двадцать жетонов всего на сумму пять су, что составляло ставку в пять лиардов, сумму крупную в глазах игроков. При очень большом счастье можно было выиграть пятьдесят су, т. е. столько, сколько никто не тратил в Геранде в день. Поэтому не удивительно, что мадемуазель де Пен-Холь относилась к этой игре, которая по своим невинным свойствам может быть приравнена, если верить словам Академии, только к игре в пьяницу, со всей страстью, которую может проявить охотник по какой-нибудь очень интересной охоте. Мадемуазель Зефирина, участвовавшая в половине ставки баронессы, относилась к мушке с таким же интересом. Поставить один лиард с шансами выиграть сразу пять, это для старой скопидомки была целая сложная финансовая операция, и она решалась на нее с таким же душевным трепетом, какое может разве испытать жадный биржевой спекулянт на бирже при игре на понижение и повышение. По дипломатическому договору, состоявшемуся в сентябре 1825 г., после одного вечера, когда мадемуазель де Пен-Холь проиграла тридцать семь су, было постановлено, что игра прекращается, как только проигравший десять су изъявит на то желание. Вежливость не позволяла причинять другому игроку неприятность видеть, что игра в мушку продолжается без его участия. Но всякая страсть ведет к обходу закона. Шевалье и барон, эти два престарелых политикана, нашли способ обойти постановление. Если у игроков будет сильное желание продолжать интересную партию, то отважный шевалье дю Хальга, очень расточительный и щедрый на то, что не касалось лично его издержек, всегда предлагал вперед десять жетонов мадемуазель де Пен-Холь или Зефирине. Если только одна из них или обе вместе успевали проиграть по пяти су при первом выигрыше, они должны ему уплатить долг. Старый холостяк может позволить такую любезность по отношению к барышням. Барон со своей стороны также предлагал жетоны старым девам, чтобы продолжать партию. Обе скупые старухи всегда соглашались на это, но предварительно, по обычаю барышень, долго заставляли себя упрашивать. Особенно была оживленна мушка, когда у тетки гостила одна из девиц Кергаруэт – просто Кергаруэт: здесь никто из них не мог добиться, чтобы их называли Кергаруэт де Пен-Холь, даже слуги получили на этот счет такое приказание раз навсегда. Тетка брала ее с собой на мушку к дю Геникам, как на какое-нибудь величайшее веселье. Молодой девушке при этом внушалось, чтобы она была как можно любезнее, что, впрочем, ей не было трудно, если тут находился красавец Калист, обожаемый всеми четырьмя барышнями де Кергаруэт. Молодые девицы эти, воспитанные по-новому, нисколько не дорожили пятью су и за ними записывались мушка за мушкой: иногда за ними числилось до ста су, суммами от двух с половиной су до десяти. Эти вечера очень волновали старую слепую. Взятки именовались в Геранде руками. Баронесса пожимала ногу своей золовки столько раз, сколько по ее картам можно было рассчитывать взять верных взяток. Играть или не играть, особенно когда корзина была полна, было вопросом очень важным и в душе играющих жадность наживы и боязнь рискнуть производили мучительную тревогу. Каждый спрашивал остальных: «Будете ли вы ходить?» и при этом с завистью смотрел на тех, у кого карты были достаточно хороши, чтобы попытать счастья, и чувствовал отчаяние, если самому приходилось пасовать. Если Шарлотта де Кергаруэт, слывшая у них за отчаянную благодаря смелой игре, рисковала счастливо, то на возвратном пути ее тетка, в случае, если сама не была в выигрыше, обращалась с ней холодно и читала ей наставление: у нее характер слишком решительный, молодая особа не должна так идти напролом, играя с почтенными и уважаемыми особами; и манера схватывать корзину, и бросать карты у нее слишком резка; для молодой девушки нужно побольше сдержанности и скромности; над чужим несчастьем нельзя смеяться и т. д. Тысячу раз в год повторялись в их кружке одни и те же, но всякий раз казавшиеся новыми шуточки о том, кого надо запрячь в корзинку, если она слишком была полна: один предлагал запрячь быков, другой – слонов, лошадей или ослов, собак. И за двадцать лет никому не пришло в голову, что эти шутки повторяются изо дня в день. Такие предложения всегда встречались улыбкой. Повторялись каждый раз и слова сожаления, вырывавшиеся у тех, кто оставался посторонним зрителем, когда полная корзина доставалась одному из игроков. Карты сдавались очень медленно, размеренными движениями. Разговаривали играющие между собой не иначе, как прижав карты к груди. Эти благородные и уважаемые люди имели очаровательную слабость – не доверять друг другу в игре. Мадемуазель де Пен-Холь почти всегда укоряла священника в плутовстве, если он брал себе корзину.