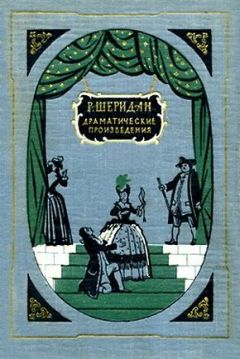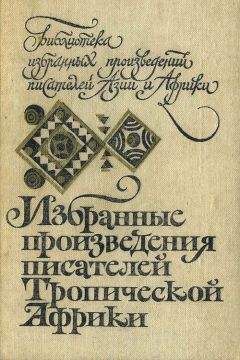Эрни Крустен - Эстонские повести
«Ладно, пусть себе глазеют — эка невидаль: мужик на дереве! Мало ли зачем мне понадобилось сюда забраться. Может, скворечник прибиваю. Правда, припоздал я с этим делом, скворцы давно уж хлопочут вокруг старых домиков. Да мало ли причин. Зачем еще на дерево лазят? Когда же это я в последний раз такой номер отколол? Было, когда было, а ничего подобного, как сейчас, не случалось — даже лестницу пришлось подставлять, устроился на самой верхотуре. Раз в доме лестницы подлиннее не оказалось, не идти же к соседям клянчить. Да вряд ли у кого бы и нашлась такая лестница, чтоб достала до самой макушки. Откуда такой большой лестнице взяться, ведь ее обычно по высоте дома мастерят, а дом у меня приземистый, в самый раз на боку лежать да камбалу жевать».
Он опять остановился возле лестницы, переминаясь с ноги на ногу.
«Так оно, должно, и пойдет, это нынешнее утро. Ни есть, ни пить не стану, пока работу не закончу». Перешагнув десять перекладин, он добрался до сколоченной из досок площадки и смело ступил на нее. Он сам испробовал вчера на прочность эти шесть досок. Тут было просторно, места на двоих хватит, если кому-нибудь взбредет в голову залезть на дерево. Но никто не придет на помощь, он должен справиться сам. Чтобы повалить дерево, не обязательно лезть на верхушку, это можно и на земле сделать, но не сейчас и не это дерево.
«Смотри-ка, а тут недурно. Сиди себе, как пташка на ветке, и разглядывай все вокруг. Знакомые, исхоженные вдоль и поперек места, а видятся они отсюда совсем иначе. Это и называется вид с птичьего полета, тот самый вид, что заставляет мальчишек лезть на вершину березы, а взрослых влечет к штурвалу самолета. Чем взрослее становится человек, тем выше летают самолеты. Мне-то и тут, в развилке, хорошо. И смородиновой ветке место осталось. Когда я себе этот помост сооружал, то сразу приметил смородиновую поросль, но чуть было не забыл про нее. Нет, не взрастишь ты ягод на ветвях своих — кто же гнал тебя на такую высоту. Правда, не твоя вина это — птица тебя сюда занесла. Не печалься, успеешь и ты пустить корни в землю, я сам помогу тебе спуститься. Смородина на ивовых ветвях не растет, смородина должна плодоносить, а ива — дерево старое, дряхлое, после шторма только мусор от нее на чистой траве. Во всяком случае, кое-кто так считает, а потому и я должен считать так! Ничего не поделаешь.
Ни одна труба в деревне еще не дымится, похоже, я единственный своим дымком даю небу знать о живой душе. Целы, мол, невредимы, живем себе и деревья пилим. На сей раз, конечно, не так, чтобы они сами себе дорогу ветвями прокладывали, на сей раз у нас работа тонкая — сучья спилить, пока дерево на корню стоит. Сегодня, дружище, тебе место для паденья приготовлено, каждая веточка должна в нем лечь. Ни черным, ни белым оно не отмечено, но мысленно круг уже очерчен, и я за грань не переступлю. Порознь, вместе ли, но лежать вам в этом намеченном мною круге, а оголенный ствол вместе с моими подмостками будет одиноко выситься над вами. Их черед наступит потом. А если не упадете, слишком серьезно восприняв свой последний полет, то только подведете меня. Я ведь тоже это дело всерьез делаю. Хочу по-доброму закончить все, нет у меня охоты ссориться».
Загасив окурок о стоптанный каблук, он бросил его вниз. Потом поднялся, ухватившись за самый толстый сучок, и выругался: свой инструмент, старенькую лучковую пилу с тонким полотном, которое входит в дерево, как в масло, он забыл в сарае. Сонный, в дурном настроении, забрался он наверх, а пилу оставил внизу. Еще одно предзнаменование, явно не в его пользу. Теперь зубоскалам впору от души посмеяться над ним — и ничего вразумительного ведь не ответишь. А, пусть себе зубоскалят, захочу — и сложа руки буду тут сидеть. И он снова прислонился к корявому стволу.
Не на ком тут свое зло сорвать. Этого-то он и ждал — высказать вслух все, о чем он вынужден был думать про себя, тем более что и руки оказались свободными.
«Ну, что ты на это скажешь, щебетунья?» — спросил он. За ним и раньше водилась привычка разговаривать со всякой живностью; не получив ответа, он продолжал беседу сам с собой, не тратя попусту слов и посасывая сигарету. Обычно собеседники не возражали ему. Потом он ни за что не мог вспомнить, какие именно слова произнес вслух, а какие нет, не делая особого различия между мыслями и высказываниями — все родилось в его голове, все было до боли своим и не нуждалось в запоминании.
«Издалека тебя трудно приметить — настолько ты серенький и невзрачный. Голос у тебя хорош, другие хоть и поют получше, но зато ты целое лето напролет рядом — чик-чирик. Вот последний раз ты чуть ошибся. Даже не знаю, как тебя звать. Для меня ты чик-чирик. Да передохни ты малость, даже плохим певцам отдых нужен. Чик да чирик. Вот спилю эту старую иву, и придется тебе перекочевать вон на ту рябину, но, видать, тебе здесь больше нравится чирикать. А если и дальше все так пойдет, и в один прекрасный день окажется, что и рябина тоже затеняет сад, неужели придется мне и ее спилить, чтобы она не мешала помидорам. Ты выбрал эту иву, да и дятлы и иволги тоже сюда залетают — из-за одного этого стоит оставить дерево жить. И я к вам забрался, но только мне не до песен.
Косули пощипывают травку на лесной опушке. Развелось их — косуль да кабанов. Нынче опять полдеревни без семенной картошки осталось, а им хоть бы что. У каждого хозяина должно быть ружье, чтоб свое поле охранять. Такого крупного зверя чучелом не испугаешь, даже мелкое зверье не боится человека, а в городах лесные птицы распевают себе спокойно на антеннах. Что я бы сейчас делал, окажись у меня в руках ружье? Что угодно, только не ружье».
Он зло сплюнул и полез вниз, только лестница заскрипела. Спускаясь, заметил на краю поля лисицу и хотел было спугнуть ее, но передумал — спуск дело непростое. Лиса, лениво и безбоязненно бежавшая вдоль поля, скрылась в зарослях ольхи за канавой.
«Опять Хильда лишится курицы», — подумал Пауль Тийде, едва его ноги коснулись земли.
Ее зовут карга Хильда или просто старая карга. Кому как заблагорассудится. На сплетни она не обращала внимания, слышала только то, что говорили в лицо. Хильда или карга Хильда, иногда и чопорно — Хильдегард. Последнее случалось настолько редко, что Хильда озиралась по сторонам — о ком речь? Поняв, что говорят о ней, успокаивалась. Можно и так, ей все равно. Жила-была старуха, а вот деда у нее не было. Да и быть не могло. Ей никто не нужен. Она тоже может обозвать невесть как. Так, что уши вянут.
Однажды, да, однажды она высказала кое-что. На похоронах Анту. Вернее — на поминках. На могиле еще слезы не обсохли, а поминальщики уже под столом валяются, так вот печалились и поминали. Тогда она и высказалась: походит, мол, вдова недельки две с зареванным лицом, а дальше пойдет все как было. Потом о Хильде судачили, плохой-де она человек, еще и хуже говорили, хотя вскоре сами убедились, что права-то была она. Может, ты и права, и даже если это так, все равно незачем объявлять об этом во всеуслышание — приличия надо соблюдать. Вот, вот, приличия-то у вас хватило ровно до тех пор, пока до холодца не добрались.
«После этих поминок я проклинала сама себя, ведь зарок себе дала, что не буду ни с кем связываться, и слово свое сдержала. Да и Анту пошла проводить в последний путь только потому, что… Ну не могла тогда отказаться! Да после драки кулаками не машут».
Вот такую историю могла бы поведать ближайшая соседка Пауля Тийде, но она не расскажет. Ближайшая-то ближайшая, да меж ними широкое поле, где когда-то пышно зеленела ольховая рощица. Нечто большее пролегло между ними, чем эта оставленная под пар пашня. Встречаются они редко, а если и сведет их дорожка, то сказать им друг другу нечего. Каждую неделю они видятся возле магазина, но Хильдегард словоохотливостью не отличается, да и не только со своим соседом. Все давно привыкли к этому, и разговор заводят только в крайнем случае. И ей, видно, жаловаться особо не на что. Годами приносит она молоко к магазину, и всегда она была такой своеобычной, что никто не обращает на это внимания. Человека чужого поначалу сбивает с толку ее замкнутость, но и ему вскоре все становится ясно: карга, она и есть карга.
Люди болтали всякое о ее развалюхе, где все перевернуто вверх дном: ни крыши, ни пристроек, ничего нового и красивого, чем можно и самому полюбоваться, и перед людьми похвастаться. Тем, кому приходилось переступать порог ее дома, а их на пальцах пересчитать можно, — даже эти редкие гости распространяли слухи, не делающие чести хозяйке. Сказывали, будто на кухне у нее вечно то бычок, то барашек толчется и в каждом углу кошачья морда торчит. А те, кто находил у Хильды достаточно много предосудительного, не упускали случая добавить, что и молоко-то она водой разбавляет, и тряпки-де для процеживания меняет, только уж если в навозе замарает. И хотя у всех хватало забот и хлопот, сплетни и разговоры о Хильде не утихали.