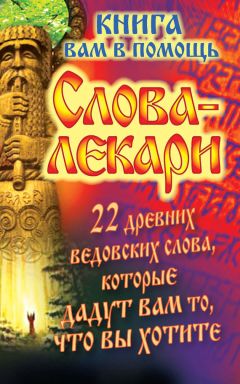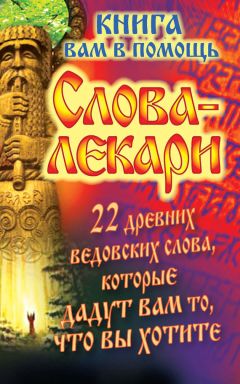Андре Мальро - Надежда
Дым разбушевался, стена огня взметнулась вверх. Теперь было отчетливо видно все: полотняные колпаки лежавших рядами раненых, кошки, пожарные. И словно аккомпанируя полету пламени, глубокая вибрация моторов снова заполнила черное небо.
Рамос страстно желал безопасности раненым, которых вывозил сантранспорт машина за машиной, и потому ему хотелось верить, что это гудят автомобильные моторы; но после того как пожар притих было в насыщенной искрами тишине, наставшей, когда отгрохотали, упав, развороченные стропила, там, наверху, снова загудели во всю мочь неумолимые моторы; две серии по четыре бомбы, восемь взрывов и затем еле различимый гул голосов, словно весь город проснулся в ужасе.
Неподалеку от Рамоса милисиано из крестьян, у которого сползла перевязка, глядел, как кровь стекает по его голой руке и капля за каплей падает на асфальт; в темно-багровом зареве кожа казалась красной и красным был черный асфальт, а кровь, коричневатая, как мадера, падая, становилась светящейся и желтой, как огонек сигареты Рамоса. Он распорядился, чтобы крестьянина немедленно увезли. Появились раненые с загипсованными руками; фигуры скользили, словно в траурном балете: сперва чернели только силуэты, затем стали видны светлые пижамы, делавшиеся все краснее и краснее, по мере того как раненые пересекали площадь в угрюмом свете пожара. Все раненые были солдатами: никакой паники, ожесточенный порядок, слагавшийся из усталости, бессилия, ярости и решимости. Еще две бомбы, и ряд лежавших раненых колыхнулся, как волна.
Будка с телефоном находилась в сотне метров от площади, на улице, не освещенной пожаром; Рамос наткнулся на чье-то тело, включил фонарик: человек кричал, широко раскрыв рот; один из санитаров дотронулся до его руки.
— Мертв.
— Нет, он кричит, — сказал Рамос.
Они с трудом могли расслышать друг друга в грохоте бомб и дальних орудий, в гуденье самолетов и затухающем вое сирен. Но человек был мертв, и рот его был открыт, словно он кричал перед смертью; может быть, он и в самом деле кричал… Рамос снова наткнулся на носилки, снова послышались крики, очередная зарница выхватила из мглы целую толпу пригнувшихся людей.
Рамос потребовал по телефону, чтобы прислали еще сантранспорт и грузовики: многих раненых можно было вывезти на грузовиках. («Куда?» — спрашивал он себя. Все госпитали один за другим превратились в пылающие костры.) Гернико послал его в Куатро-Каминос. То был один из беднейших районов, он оказался под особым прицелом с самого начала осады (ходили слухи, Франко заявил, что пощадит фешенебельный район, Саламанку). Рамос снова сел в машину.
В огне пожаров, в мертвенном свете засиненных фонарей и фар, в полной темноте народ снова уходил безмолвно в свое вековечное странствие. Многие крестьяне с берегов Тахо укрылись у родственников, каждая семья со своим осликом; и все, нагруженные одеялами, будильниками, канарейками в клетках, неся на руках кошек, шли, сами не зная почему, к богатым кварталам — без паники, издавна привыкнув к бедствиям. Бомбы падали по несколько штук сразу. Их научат быть бедными — такими, как положено.
От засиненных фар света было немного. Подъезжая к распотрошенным домам, Рамос увидел распростертые тела, их было около двадцати, они лежали параллельно, смутно различимые, совсем одинаковые на фоне развалин. Он остановил машину, свистом позвал санитарный транспорт. Анархисты, коммунисты, социалисты, республиканцы — как перемешал неумолчный гул вражеских самолетов кровь людей, мнивших друг друга противниками и побратавшихся в смерти!.. Сирены машин проносились в темноте, сближались, пересекались и исчезали во влажной ночи, словно гудки отплывающих пароходов. Одна из машин остановилась, и в переплетенье воплей вой ее, долгий и неподвижный, повис в воздухе, словно вой истосковавшегося пса. Сквозь запах раскаленного кирпича и горелого дерева, под вихрями искр, которые неслись по улицам, словно обезумевшие патрули, взрывы бомб ожесточенно преследовали звонки санитарных машин, заглушали их яростным гулом, но неутомимые колокольчики вырывались из этого гула, словно из туннелей, среди своры ошалевших гудков. С начала бомбежки распелись петухи. Когда же с адским грохотом взорвалась планирующая бомба, петухи пришли в исступление; в этом бедном квартале их было множество, словно в деревне; хором — неистовые, отчаянные — они надсаживались, истошно выпевая протест нищеты против смерти.
Узкий пучок света от фонарика Рамоса, дергавшийся, словно усики насекомого, скользнув по телам, распростертым вдоль стены, выхватил из тьмы человека, лежавшего на пороге дома. Он был ранен в бок и стонал. Где-то неподалеку слышалось позвякивание санитарной машины. Рамос свистнул. «Сейчас подъедет», — сказал он. Человек ответил новым стоном. Фонарик освещал его сверху, отбрасывая ему на лицо тени от травинок, пробившихся между плитами порога; под неутомимые вопли разбушевавшихся петухов Рамос с болью вглядывался в игру теней, безучастных и тонких, с японской точностью прорисованных на подрагивавшей щеке.
На губы раненого упала первая капля дождя.
Глава третья
За немецкими окопами интербригады вздымается зарево первых больших пожаров Мадрида. Добровольцы не видят самолетов; и все же ночная тишина, уже не имеющая ничего общего с загородной, странная тишина войны, вибрирует, словно поезд, переходящий с одной колеи на другую. Здесь собрались все немцы: те, кому пришлось эмигрировать, потому что они марксисты; те, кому пришлось эмигрировать, потому что они романтического склада и мнят себя революционерами; те, кому пришлось эмигрировать, потому что они евреи, и те, кто не были революционерами, но стали ими, и вот они здесь. После боев в Западном парке им приходится отражать по две атаки в день: фашисты тщетно пытаются вклиниться в расположение республиканцев на территории Университетского городка. Добровольцы смотрят на огромное красное зарево, сквозь дождь вздымающееся к облакам: отблески пожара, подобные отблескам световых реклам, в туманные ночи всегда разрастаются, и такое впечатление, будто пылает весь город. Никто из добровольцев еще не видел Мадрида.
Вот уже больше часа, как они слышат зов раненого товарища.
Марокканцы в одном километре от немцев. Марокканцы не могут не знать, где раненый: скорее всего выжидают, когда ему на помощь отправятся соотечественники; один доброволец, выбравшийся из окопа, уже убит. Добровольцы готовы идти на манок, они боятся лишь одного — что не найдут обратной дороги в кромешной тьме, когда пожаром освещено только небо.
Наконец трое немцев получают разрешение отправиться к раненому, кричащему в черном тумане. Один за другим они переступают бруствер, проваливаются в туман; несмотря на взрывы, слышно, какая в траншее стоит тишина.
Раненый кричит по меньшей мере в четырехстах метрах от них. Путь будет долгим: все теперь знают, что человек ползти быстро не умеет. А ведь его нужно будет доставить в траншею. Лишь бы только они не привстали. Лишь бы только рассвет не пришел слишком рано.
Тишина — и сражение; республиканцы пытаются сомкнуть свои силы за фашистскими рубежами; марокканцы пытаются вклиниться в Университетский городок. Где-то в ночи стрекочут вражеские пулеметы, ведя огонь из госпиталя-клиники. Мадрид пылает. Трое немцев ползут.
Зов раненого слышится раз в две-три минуты. Если выпустят ракету, добровольцы не возвратятся. Сейчас они метрах в пятидесяти от траншеи; оставшиеся чувствуют затхлый запах грязи, по которой они ползут, почти такой же, как тот, что стоит в траншее; чувствуют так, словно ползут с ними вместе. Как долго не зовет раненый! Только бы им не сбиться с курса, только бы, по крайней мере, доползти до него…
Трое, вжавшись в землю, ждут, ждут зова в тумане, пронизанном вспышками. Голос смолк. Раненый больше не позовет.
В растерянности они приподнялись на локтях. Все так же пылает Мадрид, все так же держится немецкая траншея и под угрюмый тамтам орудий марокканцы в ночном тумане все так же пытаются вклиниться в Университетский городок.
Глава четвертая
Шейд остановился возле первого же развороченного дома. Дождь прекратился, но чувствовалось, вот-вот польет снова. Женщины в черных шалях стояли цепочкой позади милисиано из спасательной службы, которые извлекали из-под обломков граммофонную трубу, какой-то сверток, шкатулочку…
На четвертом этаже дома, одна стена которого была срезана, так что все походило на декорацию, виднелась кровать, зацепившаяся ножкой за пробитый потолок; из этой комнаты высыпались на асфальт, почти к ногам Шейда, фотографии, игрушки, утварь. Бельэтаж, хоть и развороченный внутри, с фасада остался цел и безмятежен, как жизнь в мирное время; его агонизирующих жильцов увезла санитарная машина. На втором этаже, над кроватью, залитой кровью, зазвенел будильник, звон растаял в безутешности серого утра.