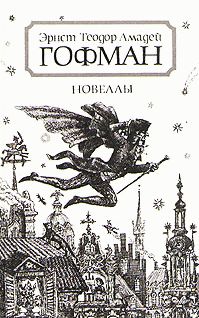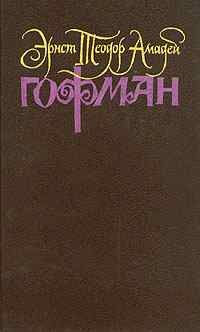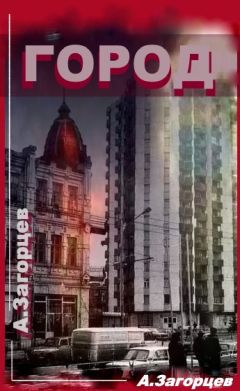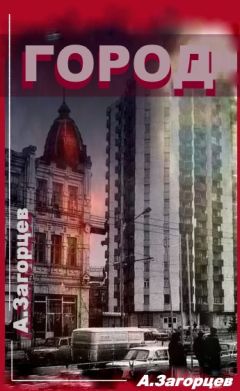Эрнст Гофман - Известие о дальнейших судьбах собаки Берганца
Я. Ну, тогда, дорогой Берганца, рассказывай дальше по-своему.
Берганца. Все же Каньисарес в конце концов оказалась права.
Я. Что это ты вдруг?
Берганца. Принято говорить: черт разберет, что это такое; но многого не разбирает и черт, и тогда люди опять говорят: экий глупый черт! Со мной и с моим другом Сципионом это всегда оборачивалось как-то по-особому. В конце концов, я и в самом деле Монтиель, урод в семье, которому маска собаки, предназначенная ему в наказание, служит теперь для радости и увеселения.
Я. Берганца, я тебя не понимаю.
Берганца. Если бы я, с моей искренней приверженностью ко всему доброму и истинному, с моим глубоким презрением ко всему поверхностному, к чуждой всего святого суетности, охватившей сегодня большую часть людей, мог бы собрать воедино весь мой ценный опыт, богатство так называемой жизненной философии, и явился бы в представительном человеческом облике! Спасибо тебе, дьявол, что ты дал колдовскому зелью бесцельно плавиться у меня на спине! Теперь я, собака, лежу незамеченным за печкой и с издевкой, с глубокой насмешкой, коей заслуживает ваша мерзкая пустая надутость, насквозь, до глубины вижу вас, человечков, вашу натуру, которую вы обнажаете передо мной без стыда и совести.
Я. Разве люди никогда не делали для тебя ничего хорошего, что ты с таким ожесточением нападаешь на весь род людской?
Берганца. Дорогой мой друг, за мою довольно долгую жизнь мне случалось принимать некоторые, быть может незаслуженные, благодеяния, и я с благодарностью вспоминаю каждый отрадный, блаженный миг, какой мне ненамеренно доставлял тот или иной человек. Заметь себе! Ненамеренно, сказал я. Благодеяния, хочу я сказать, это дело совсем особого рода.
Если кто-то почесывает мне спину или тихонько щекочет у меня за ушами, что сразу приводит меня в приятное, мечтательное состояние, или дает мне смачный кусок жаркого, чтобы я изъявил готовность, к его удовольствию, принести ему палку, которую он закинул подальше или даже бросил в воду, или чтобы я служил, сидя на задних лапах (до смерти ненавистный мне маневр), то этим он мне никакого блага не делает: это было даяние и получение, купля и продажа, где о благодеянии и долге благодарности речи быть не может. Но крайний людской эгоизм приводит к тому, что каждый лишь хвастливо восхваляет то, что сам он дал, а полученного даже стыдится, вот почему часто получается так, что оба одновременно винят друг друга в неблагодарности за оказанные благодеяния. Мой друг Сципион, которому тоже иногда жилось плохо, служил в то время в деревне у одного богатого крестьянина, человека жестокого, который есть ему почти не давал, зато частенько угощал изрядной порцией колотушек. Однажды Сципион, чьим пороком отнюдь не было пристрастие к лакомствам, только с голоду вылакал горшок молока, и хозяин, который это обнаружил, избил его до крови. Сципион быстро выскочил из дома, чтобы избежать верной смерти, так как мстительный крестьянин уже схватил железную мотыгу. Сципион мчался по деревне, но, пробегая мимо мельничной запруды, увидел, что трехлетний сынишка крестьянина, только что игравший на берегу, упал в поток. Мощный прыжок - и Сципион очутился в воде, схватил мальчонку зубами за платье и благополучно вытащил его на зеленую лужайку, где тот сразу пришел в себя, заулыбался своему спасителю и стал его ласкать. Однако Сципион пустился наутек со всей прытью, на какую был способен, чтобы никогда больше не возвращаться в эту деревню. Видишь, друг мой, это была чисто дружеская услуга. Прости, если подобный пример со стороны человека мне как-то сразу не приходит на ум.
Я. При всем твоем ожесточении против нас, людей, которые у тебя на весьма плохом счету, я начинаю все больше тебя любить, славный Берганца. Позволь мне совершенно бескорыстно выказать тебе мое расположение способом, который, как я знаю, будет тебе приятен.
Берганца, легонько фыркая, придвинулся ко мне поближе, и я несколько раз погладил его по спине, от головы к хвосту, и почесал; постанывая от наслаждения, он мотал головой, вертелся и извивался под моей ласковой рукой. Когда я наконец перестал, разговор продолжался.
Берганца. При каждом приятном физическом ощущении мне в воображении тоже являются прелестнейшие картины, и вот сейчас я увидел обворожительную Цецилию, как она однажды в простом белом платье, с красиво заплетенными в косы блестящими темными волосами, плача, удалилась от гостей в свою комнату. Я вышел ей навстречу и, как делал обычно, лег, свернувшись, у ее ног. А она взяла меня обеими ручками за голову и, глядя на меня своими светлыми глазами, в которых еще блестели слезы, сказала: "Ах! Ах, они меня не понимают. Никто, и матушка тоже. Так не поговорить ли мне с тобой, верная моя собака, обо всем, что лежит у меня на сердце? Ах, я даже не могу это выразить, а если бы и могла, ты бы мне не ответил, но зато и боли не причинил бы".
Я. Эта девушка - Цецилия - становится мне все интереснее.
Берганца. Господь Вседержитель, коему я поручаю мою душу, - пусть нечистому не достанется от нее ни доли, хотя это ему я, скорее всего, обязан обличьем благородного венецианца, в каком уже столько времени болтаюсь здесь, внизу, на большом маскараде, - да! Господь Вседержитель создал людей совсем разными. Бесконечное разнообразие догов, шпицев, болонок, пуделей это ничто против пестрого смешения острых, тупых, вздернутых, крючковатых носов; против бесконечного различия подбородков, глаз, лобных мышц, а разве возможно представить себе всю разницу в образе мыслей, все особенности взглядов и мнений?
Я. К чему ты ведешь, Берганца?
Берганца. Прими это как общее или же как обыкновенное рассуждение.
Я. Но ты опять совсем отклонился от приключившейся с тобой катастрофы.
Берганца. Я только хотел тебе сказать, что моя хозяйка сумела завлечь к себе в дом всех сколько-нибудь значительных художников и ученых, какие были в городе, и при участии самых образованных семейств создала такой вот литературно-поэтически-художественный кружок, который она возглавляла. Ее дом был в некотором смысле литературно-художественной биржей, где совершались всевозможные сделки с суждениями об искусстве, с самими произведениями, а иногда и с именами художников. Музыканты ведь дурашливый народ!
Я. Как так, Берганца?
Берганца. Ты разве не замечал, что живописцы большей частью упрямы и своенравны, что при дурном настроении никакие радости жизни их не веселят, что поэты чувствуют себя довольными, лишь смакуя собственные сочинения? А музыканты окрыленными стопами перепорхнут через все; любители вкусно поесть, а еще больше - выпить, они тают от блаженства перед хорошим блюдом и перед первейшим из первых сортов вина, забывая обо всем вокруг, мирясь со светом, который подчас злорадно их жалит, и добродушно прощая ослу, что его "и-а" не образует чистой септимы, ибо он всего только осел и по-иному петь не умеет. Короче, музыканты не чувствуют черта, хоть бы он сидел у них на пятках.
Я. Но, Берганца, к чему опять это неожиданное отступление?
Берганца. Я хотел сказать, что моя дама наивысшего почтения удостаивалась как раз от музыкантов, и когда ей удавалось, после шести недель частных занятий, не в такт и без выражения отбарабанить какую-нибудь сонату или квинтет, она слышала от них поразительнейшие восхваления, а все потому, что ее вина, от лучших виноторговцев, были превосходны, а лучших бифштексов не едали во всем городе.
Я. Фу, Иоганнес Крейслер так бы не поступил!
Берганца. Напротив, так он и поступал. Здесь нет никакого подхалимства, никакой фальши. Нет, это добродушная снисходительность к плохому, или, скорее, терпеливое слушание беспорядочных звуков, которые напрасно силятся стать музыкой, а это добродушие, это терпение возникают из некой приятной внутренней растроганности, которую, в свою очередь, неизбежно вызывает хорошее вино, обильно выпитое после отменного кушанья. Музыкантов я за все это могу только любить, а поскольку царство их - не от мира сего, они, как граждане неведомого далекого города, кажутся в своем внешнем поведении и повадках странными, даже смешными, - ведь Ганс высмеивает Петера за то, что тот держит вилку в левой руке, меж тем как он, Ганс, всю свою жизнь держал ее в правой.
Я. Но почему простые люди смеются надо всем, что для них непривычно?
Берганца. Потому что привычное стало для них столь удобным, что они полагают: тот, кто делает или использует это по-другому, дурак, и он потому так мучается и мыкается со своим чуждым им способом, что ихнего старого, удобного способа не знает. И вот они радуются, что чужак такой глупый, а они такие умные, и смеются над ним ото всей души, за что я их, тоже ото всей души, прощаю.
Я. Я бы хотел, чтобы теперь ты вернулся к твоей даме.
Берганца. Я как раз и собирался. У моей дамы была своеобразная манера: она хотела сама заниматься всеми искусствами. Она играла, как я уже говорил, даже сочиняла музыку; малевала, вышивала, лепила из гипса и глины; она сочиняла стихи, декламировала, и весь кружок должен был тогда слушать ее отвратительные кантаты и восхищаться ее намалеванными, вышитыми, вылепленными карикатурами. Незадолго до моего прибытия в дом она свела знакомство с одной известной мимической артисткой{121}, которую ты, наверное, часто видел, и с тех пор пошло это безобразие, - то, что стало твориться отныне в кружке с мимическими представлениями. Моя дама была хорошо сложена, однако близящаяся старость еще глубже прорезала черты ее лица, и без того достаточно резкие, к тому же ее пышные формы несколько вышли за пределы пышности, тем не менее она изображала в кружке Психею, и Деву Марию, и еще бог знает сколько других богинь и святых. Черт бы побрал этого сфинкса и этого профессора философии{121}!