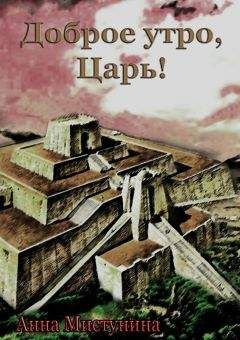Криста Вольф - На своей шкуре
Я рассказывала об этом Урбану, в те давние времена, когда еще не была знакома с тобой, в самом деле, с ним я познакомилась раньше, чем с тобой, и наверняка рассказывала ему такие вещи, какие позднее поверяла только тебе; мы стояли возле студенческой столовой, в те давно минувшие времена, куда я сейчас погружаюсь - меня погружают - лишь по причине тотального бессилия, ведь противиться я не в состоянии, здесь слово "тотальный" вполне на месте, хотя обычно я им пользоваться не могу, оно истрачено в одном чудовищном вопросе, который вплетен в жизнь целого поколения и отзывается в каждой фразе, где есть слово "тотальный" или "тотально", тотально сбрендил, тотально вымотался, говорят люди, вот и сегодня юная практикантка Эвелин: Ну, это было тотально излишне, - не знаю, о чем шла речь, и, наверно, она права, совершенно излишним может быть многое из того, что ей говорят или поручают, тотальной же бывает только война. Кстати, тоже тотально излишняя. Чту есть человеческое счастье, теперь? Этот вопрос я задала Урбану возле столовой, он рассмеялся и сказал, шаржируя манеру завсегдатая собраний, с легким саксонским акцентом: Как "что", товарищ? Борьба против угнетателей! Я засмеялась, ты не поверишь, когда-то с Урбаном вполне можно было смеяться, такое слово, как "дьявольский", нам бы тогда и в голову не пришло, тут-то и явилась Лорхен, возвестила о тебе, я подняла глаза - ты стоял на лестнице, в выцветшем френче рядового вспомогательной службы люфтваффе, и досадливо смотрел на Лорхен, потом испытующе взглянул на меня, это и был тот самый взгляд. Картина эта отправилась в мой сокровенный архив, к нетленным страницам. Выдохните - не дышите. Человеческое счастье - всё за пределами этой окаянной машины, за пределами этого помещения с двумя крепко запертыми стальными дверями.
Снова лежать в знакомой, почти привычной палате, пусть даже из тела выведено множество трубок, похоже, их становится все больше, она теряет им счет. Не будь она так слаба, ее бы, верно, заинтересовало, что можно жить без еды и физиологических выделений. И круглые сутки неподвижно лежать на спине. Ты вдруг снова здесь, стоишь возле койки, скрывая озадаченность, расспрашиваешь об ограничениях, которые замечаешь. Нет, говорю я, это цветочки, настоящая пытка - кое-что другое. С ужасом в голосе рассказываю тебе про машину, затаившуюся глубоко в недрах этого здания, как Минотавр в Лабиринте. Ты смущен, я по лицу вижу, ты в сомнениях, вот сейчас в ответ на мои преувеличения ты произнесешь свое привычное "но", и ты действительно говоришь: Но теперь они хотя бы знают, где надо резать, завотделением тебе об этом сказал. - Значит, ты опять с ним разговаривал? - Вы заранее условились. - Ага.
Поутру. Поутру, дай-то Бог, ты проснешься опять. У мамы было много замечательных качеств, в том числе красивый голос. Сопрано. Прелестная садовница, зачем ты слезы льешь.
Ты что молчишь?
Я слушаю.
Так надо.
Кто это сказал - ты? Завотделением, который снова стоит возле койки? Стало быть, поутру. Оба глядят на нее, будто ждут согласия или протеста. Но ей не хочется сетовать на предстоящее, только на прошедшее. И она сетует на питье. На неимоверную дозу. Можно ли требовать, чтобы после такого долгого полнейшего воздержания она сразу столько выпила? Это же немыслимо, умоляюще говорит она, от лица всех, к кому еще предъявят подобное же требование. Верно, говорит завотделением, непоколебимый в своей вежливости. Что тут возразишь. Но в томографе он и сам однажды побывал, для пробы... Он умолкает. Она засчитывает в его пользу, что он умолкает, прикусывает язык. Для пробы. Интонацией он обозначает кавычки. Наверняка ведь это не по-настоящему. Возможно ли, чтобы завотделением и ведущий хирург смутился?
В руке у нее маленькая синяя книжечка. Можно держать ее одной правой рукой, а левой, той, из которой тянутся трубки, осторожно листать страницы. "Здесь в вечном молчанье / Венки соплетают. / Они увенчают / Творящих дерзанье".
Видишь, вот это я искала. - Лето нынче капризное, говоришь ты. В моем мозгу быстро раскручивается цепочка слов: капризно неровно бурно озорно непостоянно банально болезненно. Ощутимо. На своей шкуре. Ты спрашиваешь о том, о чем спрашиваешь редко, ведь это мой вопрос, а поскольку его задаешь ты, наверняка что-то случилось. О чем ты думаешь? И как ни печально, при всем желании я не знаю ответа.
Ты же знаешь, я всегда была доброжелательна, нередко даже очень, и всегда выказывала добрую волю, в конце концов уже чисто внешне, ведь не стану отрицать, от слишком частого употребления моя добрая воля мало-помалу износилась, растратилась и пропала. Теперь, свободная от доброй и злой воли, свободная от малейшего намека на волю, я могу смотреть на тебя и глазами говорить "нет". Пожалуйста, не приставай ко мне с этим вопросом. Он задан слишком поздно. Или слишком рано. Еще совсем недавно я бы постаралась ответить, чтобы не обижать тебя, теперь же бессилие освободило меня от всех и всяческих стараний. Я даже не могу удивиться тому, что должна была угодить сюда, на дно шахты, чтобы у меня пропала охота тревожиться и стараться. Смутно брезжит догадка: а вдруг весь этот дорогостоящий спектакль затеян именно по такой причине? Догадка гаснет. Тускнеет. Тусклые равнины. Таинственные. Совиные. Заколдованные. Уходи, говорю я тебе. Пожалуйста, уходи. Призрачные. Ужасные. Чудовищные.
Снова поток, неистовый поток, страшный, лихорадочный, неодолимый, ему нет удержу. Жар, говорит женский голос, очень сильный жар; меня, бессильную, бесчувственную, несет стремнина, и нежданно возникают два слова, задевают крохотное пятнышко в моем сознании, противоборствуют неистовому течению, закрепляются, и я могу с удивлением подумать: я страдаю. Шевелю губами, пытаюсь высказать это умозаключение: Я страдаю.
Да, произносит трезвый голос заведующего отделением. Я знаю.
Знаменательный миг. Я страдаю, и другой об этом знает. Никакой рисовки с моей стороны, никакого притворства - с его. Сухая констатация факта.
Холодные обертывания на икры, сестра Кристина, будьте добры, займитесь. В крайнем случае укол.
Лишь поздно вечером, ночью - хотя время дня и ночи во власти распада поток схлынет, тенью возникнет палата, едва освещенная квадратным ночником на плинтусе возле двери; насквозь мокрая от испарины и обессиленная, она будет лежать в лодке своей постели, которая покачивается, но не опрокидывается, над нею - стойка с двумя прозрачными емкостями, бледный прямоугольник окна, полуприкрытого занавеской, а справа на ночном столике маленький черный предмет, радиоприемник, за которым она потянется и который нерешительно включит, готовая к тому, что опять разбился какой-нибудь самолет или в прибрежных водах на севере затонула подводная лодка, что где-то далеко-далеко найден мертвым заложник или где-то близко застрелен беглец, что, иными словами, ход событий, который, кажется, выдерживают все, кроме нее, продолжался своим чередом. Готовая к всему этому, заранее положив палец на крохотный выключатель, чтобы тотчас его нажать, она слышит, к счастью, нежный, чистый звук скрипки, потом еще один, на квинту выше, и еще, и еще, бас подхватывает первую ноту, низким, певучим голосом вступает кларнет, ее любимый инструмент, вот они уже сплели звукам тонкие паутинные сети, а вот ведут их путями волшебства, даже труба находит себе место в этом волшебном краю, взмывает высоко-высоко, унося с собою мое сердце, недостает только фортепиано, оно держалось в стороне, до последней минуты, но пришел и его черед, оно сопровождает и соединяет дивную мешанину звуков. Эй, люди, что есть человеческое счастье.
Лицо у нее тоже мокрое, чья-то рука осторожно промокает испарину тампоном, потом осторожно меняют рубашку, простыню, прочее постельное белье. У тихой безымянной ночной сестры появилась помощница - темноволосая молодая женщина, красивая (красота ее заключена в легких, едва ли не застенчивых движениях), женственная, подвижная, старательная, она сумела соединить в себе много такого, что крайне редко сходится воедино. Во-первых, глаза у нее темно-темно-карие, каких я в жизни не видела, так я ей и говорю. Она улыбается, без смущения. Сидит на краю койки, кладет ладонь мне на лоб, материнским жестом, но ведь она намного моложе, годится мне в дочери. Говорит, что она анестезиолог. Завтра утром поможет ей хорошенько заснуть. И будет рядом, когда она проснется. В наркоз надо постараться войти с добрым настроем, ведь как войдешь, так и выйдешь. Она будет внимательно за нею присматривать, можно не сомневаться. И обращение "госпожа доктор" совершенно излишне, у нее нет ученой степени. Зовут ее Бахман, Кора Бахман. Имя, богатое ассоциациями. Она не понимает. Ей нужны кой-какие сведения, я сообщаю, что могу; конечно, говорит она, почти всё записано в моей истории болезни, но она предпочитает лично удостовериться, нет ли, например, аллергии к определенному наркотическому средству. Лично удостовериться, что пациенту оно подходит, хотя, говорит Кора, кто придумал называть подходящим яд, ведь любое наркотическое средство по сути своей есть яд. Странно. Даже о щекотливых темах она умеет сказать так, что защитный страх у меня не включается, - разве же средство, которое введет мне Кора, может быть хоть сколько-нибудь неподходящим?