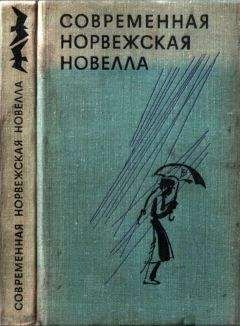Тарьей Весос - Рассказы
Так хорошо было прислониться к камню спиной после целого дня жатвы. Усталость свинцовыми нитями вплелась нам в каждую мышцу, но сейчас это почти не имело значения.
— Хильд!
— Убери руки! — испуганно сказала она.
— А им хочется узнать, какая ты.
Вокруг было темно, и можно было говорить все что думаешь.
— Им хочется… — повторила она.
Я чувствовал, что девушки созданы для мужских рук. Меня охватила дрожь. Я был уверен, что Хильд хочет быть моей девушкой.
— Знаешь, сегодня мне исполнилось двадцать один год, — сказал я и вдруг понял, что действительно стал взрослым, хотя сейчас голос мой дрожал и прерывался.
— Да, твоя мать говорила утром.
Почему именно в эту минуту она произнесла слово «мать»? Это было самое умное, что она могла придумать. Значит, все правильно.
— Хильд, почему ты пришла сюда?
— А если я и сама не знаю?
Ну и пусть. Я сказал, что всегда ждал ее.
— Ты пришла не случайно, — сказал я, — правда? Она была нежная, тяжелая, слепо доверилась мне.
Хлеб
Если две недели после жатвы простоит вёдро, хлеб можно убирать в риги. В эту пору хозяева то и дело наведываются спозаранку в поле. Они запускают руки в распушенные снопы, пробуя, хорошо ли просохла солома. Пока солома не высохла, убирать нельзя.
Хозяин, что проверяет, просохла ли солома, должен принять важное решение. Случается, он притащит в ригу целую жердь со снопами и с одним явится на кухню к жене, если, само собой, она у него толковая. Одному решать трудно. Можно погубить весь урожай.
— Погляди-ка и ты, — говорит он, перелагая ответственность на жену.
Сноп дугой выгибается у него в руках. Жена перебирает солому под обвязкой.
— Не пойму. Вроде еще сыровата.
Жена щупает колосья. Осматривает шейку колоса. Шейка светлая и сухая. Твердые, спелые зерна. Подумать только, каким благодатным и щедрым может быть лето.
— А кто-нибудь уже убирает? — спрашивает жена.
— Нет, — отвечает хозяин.
— Ну а мы отродясь первыми не начинали, — говорит она.
— А нынче, может, начнем? — предлагает работник, который слушал их разговор.
— Думаешь, пора? Работник умолкает.
Полновесный золотистый сноп покоится у них в руках. На него отрадно смотреть. Брошенные в землю семена завершили свой жизненный путь. Хозяин уносит сноп в ригу.
И уборка отложена еще на день. Жнивье с высокими сушилами, словно перелески, обрамленные каймой яркой зелени, за ними идут дома, дворы, луговины. Желтые перелески. Из настоящих, темных лесов сюда прилетают кукша и всякая лесная птица, доверчиво садятся они на сохнущие снопы и никогда не клюют больше, чем нужно, чтобы утолить голод.
Слабый ветер доносит запах соломы. Теплый сухожней — добрый ветер, как и все, что приходит на поля в свое время и радует тех, кто этого ждет.
Поселок притих. Еще полдня безделья, горячая страда позади. Одни хозяева сочли, что солома еще сыровата, другие не решаются начать первыми. С хлебом ошибаться нельзя.
Две старые женщины, Гунхильд и Кристи, решили воспользоваться передышкой и навестить родственников, живших в десяти километрах от их усадьбы. Дорога туда шла по плоскогорью, через пустошь. Позвали парнишку по имени Турвильд и предложили ему от нечего делать пройтись вместе с ними, но он ответил, что ему неохота.
Однако ему было сказано, что идти надо: женщины слишком старые, их нельзя отпускать одних — место пустынное, там за всю дорогу ни души не встретишь.
Гунхильд и Кристи слышали весь разговор. Но были так стары и немощны, что им оставалось лишь безропотно слушать, как их называют старыми развалинами, которым нужен провожатый. Турвильд надеялся до таких лет не дожить. Они ждали его, обе в черном, их дальнозоркие глаза плохо видели вблизи. Тощие и длинные старухи. Турвильд больше не упрямился. Он поднялся к себе на чердак и переоделся.
И они отправились в путь мимо дворов и полей. Вышли они перед самым завтраком — из каждой трубы поднимался дым: стряпали еду. Долетал слабый запах соломы, и воздух был так прозрачен, что казалось, будто горы подступили к самому поселку. Деревья на горах уже начали желтеть. По небу медленно катилось огромное утреннее солнце. Говорят, что солнце иногда смеется, в тот день оно смеялось.
Они поднялись по склону, и поселок раскинулся у них под ногами, они остановились, чтобы полюбоваться на него.
— Какой хлеб уродился! — сказала Гунхильд.
— Да, спаси нас господи, — ответила Кристи.
Как будто говорила совсем о другом. Она стояла, заслонив от солнца глаза. Сутулая, худая, со строгим потемневшим лицом. Тело ее изнурилось в борьбе с временами года: с ветром и солнцем, дождем и морозом, одряхлело от тяжкого долгого труда на земле. Но глаза ее, как это бывает в старости, видели далеко. Жизнь нелегко далась ей, зато теперь она знала истинную цену вещам.
Неожиданно она обернулась к Турвильду.
— Ты видишь хлеб, малый? — сурово спросила она.
Эта суровость не задела Турвильда. Кристи могла и не напоминать. Он и сам не сводил глаз с полей, завороженный этой картиной. С каждым годом хлеб на полях внушал ему все большее уважение.
— Вижу, не слепой, — будто бы равнодушно ответил он. Лица Гунхильд и Кристи выразили недоверие. Затем взгляды их снова обратились вниз, на поля. Сухожней принес запах соломы. Там, внизу, словно лес, высились сушила со снопами. Хлеб. Его взрастили люди и времена года.
— Пора идти, — сказал Турвильд. — Хватит, отдохнули.
— Отдохнули? — сердито переспросили они. — Ты это о ком? Нам отдыхать ни к чему.
— Да будет вам, — сказал Турвильд и зашагал дальше. Начался лес. Они шли молча. Гунхильд и Кристи уже давно наговорились друг с другом, они всю жизнь прожили в одной усадьбе. А Турвильд что, он им не товарищ. Вот они все и молчали.
Лес перешел в исхлестанную ветрами пустошь. Вдоль дороги тянулись болотные топи. Виднелась редкая белоголовая пушица. Кое-где попадались могучие корявые сосны. Обезглавленные, с обломанными ветвями и ободранной корой, эти дуплистые великаны упрямо вздымались ввысь. На их замшелых нежно-серых стволах застыла смола. Древние деревья, упавшие па землю, затянуло вереском и травой.
Пройдя полпути, Кристи сказала:
— Помоги, боже, одолеть эту дорогу!
Сидели бы дома, старые вы развалины, хотелось ответить Турвильду, но с Гунхильд и Кристи так разговаривать не полагалось.
Они присели на обочину. Трава была уже блеклая, осенняя. Дорога совсем заросла, чернели лишь глубокие колеи.
Турвильд размышлял про себя, как ему быть, если Гунхильд и Кристи в самом деле понадобится его помощь, вдруг они вконец ослабеют и не смогут идти дальше. Он вздрогнул, поймав на себе их взгляды. Неужто они угадали его мысли? Старухи поднялись и снова пустились в путь. Они явно были обижены. Турвильд не мог взять в толк, что он такого сделал. Больше они уже не останавливались, пока не дошли до самой усадьбы.
— Добрый день.
Их встретили приветливо, как и подобает встречать гостей. Поскорей усадили за стол.
Здесь тоже па всех полях сушились снопы. Гостьи видели их из окна. Но в этой округе жатва прошла позже.
— У нас хлеб еще сырой, — сказал хозяин усадьбы.
— А мы уж сегодня чуть было не начали свозить, — сказала Гунхильд.
— Так вы и жали раньше нас, — заметил хозяин.
— Раньше, — согласилась Гунхильд, — у нас все раньше — и лето, и осень.
Она там родилась и потому могла так говорить.
На столе появился теплый хлеб. Все его ели с наслаждением. Непослушные пальцы Гунхильд и Кристи крепко держали ломти. Что может быть дороже хлеба? Иные целуют его, прежде чем откусить.
После полудня небесное колесо потеряло свой ослепительный блеск. Теперь на него можно было смотреть не щурясь, что-то изменилось. В воздухе появилась мгла. На небе еще не было ни облачка, но огромное солнце уже утратило свою силу, оно затянулось пеленой и перестало греть.
В комнату вошел один из обитателей усадьбы.
— Что-то небо затянуло…
Сказал вроде бы ни к чему. Просто ему было неловко молча зайти в комнату.
Гунхильд и Кристи чинно сидели и отвечали на вопросы, здесь все было чужое.
Они походили на диковинных птиц, случайно залетевших в дом. Даже здесь, у родственников, они держались сурово. Что им здесь понадобилось? Верно, хотели разведать, как обстоят дела в этой усадьбе. Вот и разведали.
Сегодня Гунхильд и Кристи показались Турвильду новыми, особенными. Он и сам не понимал почему. Была какая-то неуловимая связь между ними, и беспощадными временами года, и спелыми колосьями на светлых стеблях, и колючей стерней, которая царапает в кровь босые ноги. И этим благоуханным хлебом, что ставят на стол, дабы поддержать в людях жизнь. Турвильд видел их худые шеи, торчащие из воротников черных кофт. Видел их острые, выпирающие из-под одежды лопатки. Больше он никогда не назовет Гунхильд и Кристи старыми развалинами.