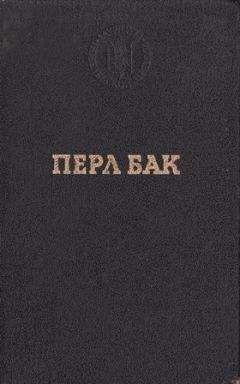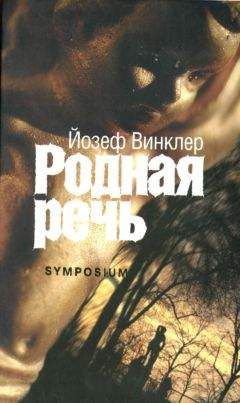Уильям Теккерей - Записки Барри Линдона, эсквайра, писанные им самим
Но король, не удостоив меня ответа, круто повернулся на каблуках, а я, отвешивая его спине поклоны, попятился из аудиенц-зала. Когда леди Линдон, в свою очередь, облобызала в гостиной руку королевы, ее величество, как я потом узнал, обратилась к ней с тем же вопросом: этот скрытый упрек так смутил леди Линдон, что она вернулась домой в крайне расстроенных чувствах. Так вот награда за мою верность и все жертвы, принесенные на алтарь отечества! Я тут же всем домом перебрался в Париж и уж здесь не мог пожаловаться на прием; но на сей раз мне недолго пришлось наслаждаться развлечениями, которыми так богата эта столица; французское правительство давно вело тайные переговоры с бунтовщиками и теперь открыто признало независимость Соединенных Штатов. Последовало объявление войны; все мы, беспечные путешественники-англичане, получили предписание о выезде; боюсь, что я оставил после себя двух-трех безутешных дам; Париж, пожалуй, единственный город, где джентльмен живет как хочет, не стесняемый своей женой. Мы с графиней за наше пребывание здесь почти не видели друг друга и встречались только в общественных местах, на приемах и празднествах в Версале или же за 'игорным столом королевы; наш крошка Брайен тоже времени не терял; он набрался такого изящества и лоску, что любо-мило: всякий, видевший мальчика, не уставал им восхищаться.
Не забыть бы мне упомянуть о последнем свидании с добрым моим дядюшкой, шевалье де Баллибаррп, которого я оставил в свое время в Брюсселе, когда он стал серьезно подумывать о salut - спасении своей души - и удалился в один из тамошних монастырей. С тех пор, к великому его огорчению и раскаянию, он снова вернулся в мир, влюбившись без памяти во французскую актрису, которая поступила с ним, как обычно поступают женщины такого пошиба, - разорила, покинула, да еще и насмеялась над ним. Его раскаяние представляло поучительное зрелище, под руководством членов Ирландской коллегии он снова обратился мыслями к вере; и единственной его просьбой, когда я осведомился, что я могу для него сделать, было внести приличный вклад в обитель, где он мечтал укрыться от мирских тревог.
Эту услугу я, разумеется, не мог ему оказать: мои религиозные правила возбраняют мне поощрять суеверные заблуждения папистов; и мы со старым джентльменом простились весьма холодно ввиду моего отказа, как он выразился, упокоить его старость.
Дело же, собственно, в том, что я и сам был на мели; между нами говоря, Роземонт из Французской оперы, не бог весть какая танцовщица, но обладательница божественной фигуры и ножек, забрасывала меня разорительными счетами на брильянты, экипажи и мебели; а тут еще мне отчаянно не повезло в игре, пришлось идти на позорнейшие сделки с ростовщиками, заложив добрую часть брильянтов леди Линдон (кое-какие из них выклянчила у меня все та же негодница Роземонт) и на другие малоприятные махинации. Но в вопросах чести я непогрешим: никто не скажет, что Барри Линдон кому-либо проиграл пари и уклонился от уплаты.
Что до моих честолюбивых надежд на приобретение ирландского пэрства, то по возвращении мне предстояло узнать, что подлец лорд Крэбс бессовестно водил меня за нос: он охотно брал у меня деньги, но столько же способен был добыть для меня корону пэров, сколько папскую тиару. За мое пребывание на континенте дурное мнение моего августейшего монарха обо мне нисколько не изменилось; напротив, как я узнал от некоего адъютанта, состоявшего при особах великих герцогов, его братьев, какие-то шпионы во Франции представили ему мое поведение и мои шалости в Париже в превратном свете, и король, под действием этой злостной клеветы, отнесся обо мне как о самом беспутном малом во всех трех королевствах. Я - беспутный малый! Я приношу бесчестие моему имени и моей родине! Услышав эти несправедливые обвинения, я пришел в такой гнев, что тут же побежал к лорду Норту объясняться, потребовать у своего министра высочайшей аудиенции, дабы обелить себя перед его величеством от позорной клеветы, а также, сославшись на мои заслуги перед правительством, коему я неизменно отдавал свой голос, спросить, когда же мне будет пожалована обещанная награда, когда титул моих предков будет вновь возрожден в моем лице.
Флегматичный толстяк, лорд Норт, принял меня с обычным своим сонным равнодушием, которое больше всего бесило оппозицию. Он слушал меня с полузакрытыми глазами. Когда же я закончил свою пространную и горячую речь произнося ее, я стремительно расхаживал по его кабинету на Даунинг-стрит, жестикулируя с истинно ирландским пылом, - он приоткрыл один глаз, улыбнулся и спокойно спросил, все ли это, что я хотел сказать. Я подтвердил это, и вот что я от него услышал:
- Что ж, мистер Барри, отвечу вам по пунктам. Король, как вам известно, считает неразумным увеличивать число наших пэров. О притязаниях ваших, как вы их называете, было ему доложено, и его величество соизволил милостиво заметить, что вы самый наглый проходимец в его доминионах и что вам не миновать виселицы. Что же до угрозы впредь нас не поддерживать, то вы вольны отправиться с вашим голосом куда угодно. А засим я просил бы вас не затруднять меня больше своим присутствием, я очень занят.
Сказав это, он лениво протянул руку к сонетке и отпустил меня с поклоном, любезно осведомившись на прощание, чем он еще может мне служить.
Я воротился домой в неописуемой ярости и, поскольку лорд Крэбс в этот день у меня обедал, рассчитался с его милостью, сорвав с него парик и швырнув ему оный в лицо, а также выместив злобу на той части его персоны, которая, по преданию, удостоилась пинка его величества. На следующий день о расправе узнал весь город, во всех клубах и книжных лавках висели карикатуры, где я был представлен за этой экзекуцией. Весь город смеялся над изображением лорда и ирландца, так как нас, разумеется, узнали. В те дни обо мне заговорил весь Лондон: мои костюмы, мои экипажи, мои приемы были у всех на устах, словно я был признанным законодателем моды, и если на меня косились в светских кругах, то я был достаточно популярен в других слоях общества. Толпа приветствовала меня во время Гордоновых беспорядков, когда чуть не был убит мой приятель Джемми Твитчер и чернь сожгла дом лорда Мэнсфилда; ибо если до сих пор я был известен как стойкий протестант, то после ссоры с лордом Нортом перекинулся к оппозиции и пакостил ему, сколько позволяли мои силы и возможности.
К сожалению, они были ограничены, я не обладал ораторским талантом, и моих речей в палате никто не слушал; к тому же в 1780 году, после Гордоновых беспорядков, парламент распустили и были объявлены новые выборы. Бот уж подлинно: пришла беда - отворяй ворота; все мои несчастья обычно сваливаются на меня одновременно. Изволь опять на грабительских условиях раздобывать деньги для проклятых выборов, а тут еще Типтофы оживились и стали травить меня пуще прежнего.
Кровь и сейчас вскипает во мне при мысли о возмутительном поведении моих недругов во время этой грязной кампании. Меня выставляли ирландским Синей Бородой, на меня писали пасквили и рисовали карикатуры, на которых я то избивал леди Линд он, то собственноручно порол лорда Буллингдона или выгонял его из дому в грозу и бурю, и так далее в том же роде. Распространялись изображения ветхой хижины в Ирландии, где якобы протекало мое детство; другие шаржи изображали меня лакеем или чистильщиком сапог. Словом, на меня излился такой ноток клеветы и грязи, что у всякого человека, не обладающего моим мужеством, опустились бы руки.
И хоть я и не оставался в долгу у моих хулителен, хоть тратил деньги без счета, а в Хэктоне и снятых мною трактирах шампанское с бургонским лилось рекой, все же выборная кампания обернулась против меня. Проклятое дворянство от меня отказалось и переметнулось к партии Типтофа. Ходили слухи, будто бы жена хочет меня оставить и я удерживаю ее силою. Напрасно я отправлял ее в город одну, носящую мои цвета, с Брайеном на коленях, напрасно посылал с визитами к супруге мэра и ко всем видным горожанкам, ничто не могло разубедить людей в том, что она живет в вечном страхе и трепете; распоясавшаяся чернь осмеливалась задавать ей наглые вопросы: не боится ли она ехать домой и как ей правится добрая плетка на ужин?
Меня забаллотировали на выборах, и тут свалились на меня просроченные векселя, все то, что накопилось у моих кредиторов за годы моей женитьбы, словно эти негодяи сговорились; векселя грудами лежали у меня на столе. Я не стану называть здесь общую сумму долга: она была ужасна. Мои управляющие и адвокаты тоже предъявили свои претензии. Я бился в паутине векселей и долгов, закладных и страховок и всех сопутствующих им подвохов. Адвокат за адвокатом приезжали из Лондона, одно соглашение с кредиторами следовало за другим; чтобы удовлетворить алчность этих гиен, почти на все доходы леди Линдон был наложен арест. Гонория в это трудное время вела себя сравнительно милостиво: ведь каждый раз, как мне требовались деньги, я вынужден был ее улещать, а когда я становился с ней ласков, эта малодушная, легкомысленная женщина приходила в отличное настроение: она готова была отдать тысячу годового дохода, чтобы купить себе одну спокойную неделю. Когда почва в Хэктоне накалилась и я решил, что единственный для нас выход - переехать в Ирландию, с тем чтобы, наведя жестокую экономию, отдавать львиную долю моих доходов кредиторам, пока их требования не будут удовлетворены, миледи ничуть не возражала: только бы мы не ссорились, говорила она, и все будет хорошо; ее даже радовала необходимость, жить более скромно, это сулило нам уединение и домашний покой, к которому она давно тянулась всей душою.