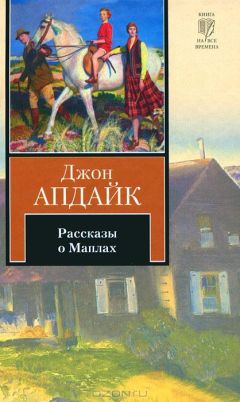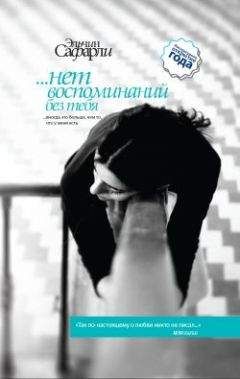Джон Апдайк - Россказни Роджера
Я словно соревновался со своей неизвестной соперницей, врачихой.
— Я что, маленькая?
— Маленькая, всего девятнадцать.
— Сообщу тебе последнюю новость, дядечка. На той неделе двадцать стукнуло.
Она, видимо, хотела сразить меня наповал. Вместо этого я почувствовал облегчение: чем Верна старше, тем меньше моя — наша! — ответственность.
— С днем рождения, милая Верна!
Молодой официант принес мне филе палтуса, а Верне телячью вырезку. Он не удивился, когда я заказал бутылку шампанского. Стрижка у него была короткая, аккуратная, такую в мои времена носили все молодые люди, но теперь стала отличительной чертой гомосексуалистов и еще одной низшей касты, другой группы риска, от которой ожидаешь неприятностей, — военнослужащих.
Нам сверху было видно, как сильно в начале века разросся город в восточном направлении. Тогда муниципальные власти и построили многие общественные учреждения: публичную библиотеку и музей изящных искусств, два сооружения в итальянском стиле, окруженные высокими оградами и крытые красной черепицей; глубокую зеленую овальную чашу, в которой расположился стадион, где проводились бейсбольные встречи высшей лиги, — стадион был опоясан рядами скамеек вишневого и брусничного цветов и осветительными щитами, похожими на колоссальные мухобойки; тротуары вокруг длинного пруда, отражающего деревья на берегу; кафедральный собор приверженцев христианской науки с розовым куполом (христианская наука! Разве на свете может существовать такое?). Многие кварталы особняков за железными оградами подверглись реконструкции. Появилось блочное жилье, понастроили многоэтажные гаражи с плоскими крышами, разрисованными стреловидными узорами, выросли башня торгового центра и прилегающий к ней отель причудливой формы — от его подъездов тянулись ярко-голубые навесы. К нам, на нашу высоту поднимался, проникал сквозь толстые стекла единственный из городских шумов — настойчивый вой полицейских сирен.
Принесли шампанское.
— Твое здоровье, Верна, — поднял я бокал с переливающейся пузырьками жидкостью. — Как телятина?
— Телятина о'кей. Превосходная. И вообще обед что надо. Не разорился? Послушай, дядечка...
— Слушаю.
— Ты, кажется, жалеешь, что трахал меня. Ты это хотел сказать?
— О господи, моя дорогая девочка, как я могу жалеть? Я рад, что это произошло. Это было замечательно. Сняло какой-то груз, как ты и обещала. Помогло мне лучше подготовиться к последнему издыханию. — Настал решающий момент, она сама напросилась. — Но... но продолжать нам, очевидно, не следует. И есть одна вещь, за которую я тебе отнюдь не признателен...
— Пола?
— Нет, Пола не проблема, тем более скоро у нее снимут гипс и она перестанет царапать пол в доме. Мне жаль, что ты втравила меня в тяжбу с управлением социальной службы. Теперь в их идиотских бумагах будет фигурировать мое почтенное имя. Мое положение на факультете...
— Хочешь остаться чистеньким?
— Если угодно, вернее сказать — не замараться в глазах моих коллег. Мы миримся с грязью, когда говорим о греховности человеческой природы, но в обычной жизни грязь должна принимать определенные традиционные формы. То, что ты повредила Поле ногу, — это хуже, чем плохо, это gauche, неприлично.
— Ну вас всех!.. Дейл зовет меня с собой в Кливленд. Я сказала, может быть.
— Ничего ты не говорила. Когда это было — после того, как вы раздавили бутылочку?
— Ты все думаешь, что между нами что-то есть? Ничего подобного. Он хочет, чтобы я хотя бы с мамкой помирилась. Говорит, если я получу аттестат, то смогу поступить на вечерние курсы в Кейс-Уэстерн.
— Не нужно тебе никуда ехать, — возразил я, хотя ее отъезд отвечал моим интересам. — Люди там ужасные.
— А врачиха говорит, они — единственные, кого я люблю.
— Ну что же, это почти по Фрейду, — сказал я, сдаваясь, и сдаваясь с благодарностью. — Хочешь, куплю тебе билет?
— Еще бы! Купи, раз ты так хочешь. Вот будет клево. — Ее глаза, обычно невыразительные, сияли — от шампанского или от яркого освещения, такого яркого, что можно было разглядеть мельчайшие царапинки на серебре приборов. Когда Верна улыбалась, приоткрывались ее маленькие круглые, как жемчужинки, зубы. — У меня к тебе еще одна просьба.
— Да? Какая? — Я старался понять, почему мне так неприятны крестики, свисающие с ее ушей, — то ли потому, что они символизировали варварское искупление смертью грехов наших, то ли в силу моего застарелого предрассудка, запрещающего надевать кресты так легкомысленно. Тем не менее женщины испокон веку носят кресты во влажной расселине между грудями. Господи, кто сотворил женское тело? Мы должны снова и снова задаваться этим вопросом.
— Будет здорово, если ты звякнешь мамке — узнать, как она отнесется к моему приезду. У меня самой духу не хватает.
— У меня тоже не хватит.
— Почему, дядечка? Как-никак она тебе сестра единокровная... А-а... знаю. — На щеке у Верны заиграла ямочка. — Боишься, по голосу она догадается...
Палтус был суховат, но я постарался поскорее проглотить кусок. В горле у меня запершило.
— Догадается — о чем?
— О том, что ты меня трахнул! — пояснила она, кашлянув.
Несколько лоснящихся любопытных лысин с соседних столиков повернулось в нашу сторону.
— Не кричи, — взмолился я.
Ее глаза с золотистой россыпью сузились от предвкушаемого удовольствия.
— Ты просто хочешь отделаться от меня, старый пижон. Я сейчас как ходячая улика. Захочу, начну вымогать у тебя денежки. Захочу, поломаю твою почтенную жизнь. И на работе будут неприятности, и с твоей женушкой-задавакой. Все эти дорогие вещи в твоем доме ведь на ее деньги куплены. На профессорское жалованье не разгуляешься. Дейл говорит, папаша у нее был важной шишкой.
Я ответил на обвинение спокойно и чистосердечно:
— Эстер — часть моей жизни. В свое время я приложил немало усилий, чтобы она стала тем, чем она стала. К тому же я слишком стар, чтобы меняться.
На десерт Верна взяла baba au rhum — ромовую бабу и кофе по-ирландски, я же, отяжелевший от шампанского, ограничился чашечкой обычного черного кофе. На факультете меня ждала стопка буклетов по ересям.
Наше окно выходило на север. Отсюда, с умопомрачительной высоты, река казалась шире, величественнее, первозданнее, чем когда переезжаешь ее по одному из мостов в автомобиле. Университет, занимающий столько места в моих мыслях и моей жизни, терялся в панораме северной части города. Здания естественнонаучных институтов, Куб, гуманитарные факультеты, студенческие общежития — все это как бы пропадало среди прибрежных заводов. Я не замечал прежде ни их плоских крыш, ни столбов дыма. Над всем районом, как над прудом на рассвете, нависала дымка, и я не мог отыскать глазами свой факультет. Зато хорошо были видны стрела бульвара Самнера, идущая от реки, и распустившиеся дубы и буки в моих кварталах. Мне даже показалось, что я различаю зеленое пятно мемориального сквера Доротеи Элликотт, и крышу собственного дома, и даже окна третьего этажа. Там, в туманной дымке над просыпающимся прудом, текла моя жизнь, за которую я успешно сражался в шестидесятиэтажной выси. Если Верна уедет, у меня будут развязаны руки и неверные поступки изгладятся из памяти. Я представил себе, как она приближается к американскому болоту, попадает в мешанину запахов и затхлого благочестия, родительских проклятий и самодовольной посредственности, и у меня упало сердце. Ее жизнь, такая яркая в пору цветения и молодой дерзости, казалась напрасной — будь то в Кливленде, с Эдной и Полом, которые снова попытаются привязать ее к гнилому стволу устаревших запретов, или здесь, с нами, чтобы пользоваться нашими безграничными безбожными свободами, стершимися от частого употребления. Настроение у меня испортилось, как будто именно я приговорил это юное существо к напрасной жизни.
— Как бы то ни было, ты должна получить аттестат зрелости.
— Она то же самое говорит. Моя врачиха. А зачем? Чтобы сделаться таким же истуканом, как вы все?
В самой северной части города металлические и битумные крыши все чаще и чаще чередовались с островками леса. Кирпичные стены сменялись древесными. Леса рядами поднимались на дальние холмы, зелень голубела, затем растворялась в сероватом тумане. Большой многоликий город раскинулся так, что не объять ни взором, ни умом. И это все? Все, что нужно человеку? Вряд ли.
Внизу, в просторном вестибюле, отделанном в стиле ар деко под оникс, мы стали прикидывать, сколько стоит билет до Кливленда.
— Кроме того, будут кое-какие дорожные расходы, — сказала Верна с шаловливым бесстыдством.
— Почему я должен давать тебе взятки, чтобы ты сделала то, что самой полезно?
— Потому что я тебе нравлюсь.
Я выложил триста долларов за аборт. Билет, разумеется, дешевле. Верна же, напротив, считала, что дороже, поскольку поездка — операция более длительная, нежели удаление плода. К счастью, мой банк установил в вестибюле автомат, выдававший наличность в пределах трехсот долларов. На том мы и порешили. Машина, гудя и щелкая, поглотила мою карточку, проверила имя владельца (Агнус) и, ворча, выдала купюры. «Хотите произвести какую-либо еще операцию?» Я нажал кнопку со словом «нет».