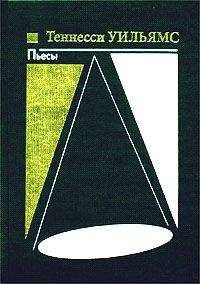Юхан Борген - Избранные новеллы
Состояние моего духа? Что ж, у меня теперь есть досуг наблюдать за этим. Я спокоен, сравнительно спокоен после долгих приступов раздражения, страха. Да, страха. Я испытал сильный страх, он и сейчас накатывает на меня волнами, перемежающимися ощущением чуть ли не благополучия, во всяком случае, покоя. Хрупкого покоя.
Быстро отвернувшись от окна, я иду к двери. Заперта. Я знаю это. Я давно знаю это. Поначалу я проверял дверь, может, раз сто на дню, затем все реже и реже: рациональность действий определяется логикой. Потому что дверь заперта. Они не выпустят меня отсюда. Здесь, может, даже уютно, комната смесь спальни с салоном; будь здесь гостиница, я даже назвал бы такой номер роскошным. Но здесь не гостиница. Становлюсь посреди комнаты, очевидно довольно уютной, и делаю гимнастику, как делал всегда, год за годом. Я слегка располнел, не люблю этого. Приседаю, выбрасываю вперед руки, еще обороты руками, вращение туловища, затем ложусь навзничь на тонкий ковер, выделываю ногами "велосипед". Законченный ритуал. Встаю, в силу давней привычки бросаю взгляд на запястье, но часов на нем уже нет, и мне это отлично известно. Пальцы правой руки сжимаются сами, так хочется взять ими мой верный "паркер", но в левом внутреннем карманчике пиджака ручки нет. Ручкой можно хотя бы отмечать дни, но у меня нет ручки. Они отняли ее у меня, они все у меня отняли. Паспорт. И его, разумеется, взяли. Я - человек, который любит во всем порядок, но у меня нет паспорта, у меня вообще нет ничего, что удостоверяло бы мою личность. Не то чтобы я сомневался, кто я такой. Молодой человек со змеиной повадкой, которого я привык называть Ужом - в первое время я все просил его вернуть мне мои вещи: ручку, паспорт, деньги, часы, - лишь улыбается своей неизменной улыбкой. Входя ко мне, он никогда не стучится в дверь, а возникает внезапно, неслышно, как тогда в ресторане: всякий раз ему что-то нужно от меня, и он всякий раз добивается своего, мне не хочется думать об этом, по крайней мере сейчас. Меня опять неодолимо тянет к окошку - убедиться, что все же существует некий "внешний мир". А то, что живет во мне, я называю "внутренним миром". Но там, снаружи, мир внешний.
Только бы солнце так не било в глаза. Не в нем, конечно, дело, оно скоро зайдет. Я тут разные мелочи высчитал. Окно выходит на юг. Здешняя квартира (я так и называю ее: "здешняя") находится на восьмом этаже, я высчитал это по щелканью лифта - единственный звук, который доносится до меня, здесь никогда не слышно ни голосов, ни шагов. В первые дни я все рвался к телефону, спорил с ними, пытаясь их уговорить, противился им... как давно это было. ("В чем дело? Кажется, вам неплохо живется у нас?") И правда, в чем-то, может, и впрямь неплохо. Мне никак не додумать до конца этой мысли, будто не с чем сравнить. Странно.
После гимнастики, после прогулки к окну снова выхожу на середину комнаты. Кровь вдруг прилила к голове - может, от разминки; помню отчетливо, что раньше вел себя совсем по-другому, помню приступы ярости, редкие, но бурные, как-то раз я даже разбил вазу. ("Разумеется, мы не станем требовать, чтобы вы возместили стоимость вазы, но, пожалуйста, дорогой друг, больше уж так не поступайте".)
Помню события, которые повторяются то и дело. Приносят на подпись бумаги. "Подпишите!" Что-то жесткое тычут в поясницу - может, револьвер, впрочем, может, мне показалось. Ему то и дело приказывают: "Подпиши!" - и суют ручку... Я теперь стал называть себя "Он". Стою вот посреди комнаты и прислушиваюсь - и вижу, как "Он" стоит посреди комнаты и прислушивается к звукам, которых нет, которых не будет, и "Он" знает это. Я это знаю.
Что ж, оставлю "Его" на середине комнаты; здесь тонкий ковер, справа кровать, над изголовьем приемник, только немой. Оставлю "Его" на середине комнаты, и пусть "Он" там произносит свои фразы - всю мою долгую, наполненную работой жизнь во мне всегда жил кто-то, беспрестанно произносивший фразы. Пусть "Он", например, скажет: "Как-никак я все же не. один на белом свете! Кругом полным-полно людей, жаль, что я прежде не замечал их, покамест еще было можно". Почему бы ему не сказать и другое: "Я уважаемый человек", - самому-то ведь неловко такое говорить? Но "Он" говорит иное - тревожные, зловещие слова: "Я боюсь Ужа и того, широкоплечего, тоже боюсь. Боюсь, а вдруг они стоят за дверью, они всегда входят ко мне без стука". И еще изрекает он вслух почти тайные мысли, вроде: "Хорошо, что никто не стучится в дверь, не входит в комнату, не возникает предо мной, тем и хорош этот миг и следующий, за которыми, может, будут еще и другие много-много секунд радостного избавления".
Вот такие вещи я позволяю себе говорить, то есть "Ему" позволяю. А все же самое страшное - это если они вдруг постучатся в дверь. Тогда - прочь шутки, конец всему!.. И теперь я боюсь, как бы вдруг не раздался стук. Но я не хочу говорить об этом и "Ему" не позволю.
Я все думаю: где только не побывал этот человек, с которым я делю уединение, чуть ли не весь мир объездил, этот многоопытный путешественник, который возвратился домой и дал заманить себя в западню, как какой-нибудь деревенский простак; о таких вещах только в журналах пишут, только обычно все много проще, обставлено не столь хитроумно. Я сам рассказал им, или, может, они догадались, что я человек со средствами, и притом совсем одинокий, никто обо мне даже не вспомнит. Я всегда искал одиночества и обрел его. И был доволен. Пока одиночество в неодолимом порыве не швырнуло меня в когти людей куда менее одиноких, людей из темного мира, не страшащихся, однако, ни света дня, ни яркого солнца. "Внешний мир" объемлет толпы людей. Когда "Он" жил в том мире, "Он" как мог избегал людей: они мешали ему, все мешали ему, "Он", говоря откровенно, и знать их не хотел, разве что походя, в веселый час, воспользоваться людским обществом, а уж потом сразу прощайте! Да, так, должно быть, и жил тот человек, когда еще не был стар.
Только уж как давно все это было! Мне трудно поверить, что "тот человек" - это я. Как-то раз, в один из первых дней в этом доме, я разбил окно: сорвал с себя ботинок и ударил им по стеклу, хотел крикнуть в идиллическую пустоту - пустоту, кишащую людьми. Но на здешних окнах двойные рамы, а в следующий миг он уже подскочил ко мне. Тот самый, Боксер. Удар ребром ладони в затылок. Когда я очнулся, на мне не было ботинок. С тех пор они всякий раз на ночь уносили мою одежду. И стул они тоже забрали, единственный предмет мебели, но это было уже после.
Как-то раз я сказал: "Зачем вы отнимаете у меня все?" Но мне ответили: "А что, разве вам плохо живется?" - или что-то еще в этом роде. А в другой раз сказали: "Непонятно, на что вы жалуетесь". Что правда, то правда, каждое утро мне выдают чистое белье, раз даже мне вернули костюм, и от него пахло знакомым запахом, какой оставляет химическая чистка. В самом деле, не скажу, будто я в тоске, будто я все время в тоске. Наверно, они подсыпают мне что-то в еду, да, безусловно подсыпают, но что я могу против них? Я даже голодовку объявлял, чтобы обрести ясность мыслей, четко представить себе мое положение. Но ведь все равно приходится чистить зубы, и совсем без питья тоже нельзя. Уж не знаю как, но только они оглушают меня каким-то зельем. Прежде я еще пытался отсюда вырваться, однажды даже предложил им крупную сумму, чтобы откупиться от них раз и навсегда, они тогда были здесь оба, хотя нет, это было в другой комнате, в нижней гостиной - просторной, светлой, обитой соломкой гостиной, сверкающей чистотой и обставленной с таким вкусом, который встретишь разве только в японских домах... помню улыбку, с какой они выслушали эти слова, бумагу, которую заставили меня подписать, - письмо в мой швейцарский банк, моему поверенному в Цюрихе: распоряжение о продаже нового крупного пакета акций. Помню, я возразил, что рано или поздно все равно... и помню их улыбку, одинаковую их улыбку, пожалуй даже не лишенную тепла, так улыбаются ребенку, который не ведает, что его ждет, "да, да, конечно, вы правы"; очевидно, "мои" письма переправляли в какие-нибудь дальние края, возможно на Канарские острова или же в Гватемалу, и там опускали в почтовый ящик, у них ведь всюду свои связи. И какой цюрихский маклер станет утруждать себя подозрениями?
Может, тогда впервые меня осенило, что я бесполезно прожил свою жизнь, бесполезно как в малом, так и в большом, всю жизнь провел в бесполезной борьбе с воображаемым врагом, каким представлялось мне все, что вовне. Мысль эта не только блеснула и исчезла, но пустила корни. "Ты - никто, - сказал я себе, - ты всегда жил лишь для себя одного". А впрочем, разве не следил я за тем, что творится в мире? То-то и оно, что только следил. Впервые мысль эта пустила корни во мне, поселилась, расцвела в душе пышным цветом - не забыть ее теперь, не отмахнуться: ты сам себе тюремщик, не человек почти, ты никто.
Однажды, наверно, это было в тот раз, внизу, в большой комнате, которую я зову японской гостиной... хотя нет, там я ведь бывал не один раз - совсем худо у меня с исчислением времени, да, хуже некуда, - словом, в тот день подсунули мне... газету. Правда, вместе с костюмом мне иногда приносили газету, но даты всякий раз тщательно вырезали - и на первой странице, и вверху над каждой корреспонденцией и телеграммой; должно быть, прошло много больше тех шестнадцати дней, которые я насчитал. Вернемся к тому дню на аэродроме, когда стюардесса подхватила меня под руку. Декабрьское солнце ослепило меня, это было дурное знамение. То же солнце и сейчас за окном, разве что стоит оно еще ниже. С чего, собственно говоря, я взял, что прошло ровно шестнадцать дней? Разве не видел я все время эти две рождественские елки внизу под окном, эти уличные елки без украшений, и днем источающие мутный электрический свет? А ночью... нет, я не припомню ни одной ночи у здешнего окна, разве что по ночам я изредка ковыляю в уборную, там всегда горит свет... как-то раз я попробовал отвернуть крышку от унитаза - может, с намерением разбить ею окно. А на другой день я увидел, что крышки уже нет, да, правда, чего только я не перепробовал, пытался, например, вывернуть краны в мойке и в ванной, помню, как-то раз утром у меня обе руки были в крови, утром... а что вечерами? Ни одного вечера не припомню, свет гасят и зажигают в коридоре за дверью. Все это происходит "снаружи", там, где осталась вся моя жизнь, или "Его" жизнь, жизнь человека, которого не знает никто. Но я уловил еле слышный щелчок выключателя, когда они там, снаружи, зажигали или тушили свет, и тогда я невольно подносил к глазам руку, на которой прежде были часы. Время, да оно существовало раньше, должно было непременно существовать, но сейчас я хочу сосредоточиться вот на чем - ведь с каждым днем мне все труднее сосредоточиться, - я, кажется, начал рассказывать про японскую комнату; так вот, однажды утром в газете снова была дыра: на самой середине одной из страниц вырезали небольшой квадратик, и я не столько читал газету - рекламу рождественских подарков, сообщения о войне в Пакистане, мести, убийствах, крови, вся газета, казалось, пропитана кровью, - я не столько читал все это, сколько гадал, что же такое было в изъятой заметке, - и вот тогда-то я и побывал внизу, в японской гостиной, и там вдруг увидел краем глаза на кафельном камине маленькую газетную вырезку; мой дальнозоркий взгляд пробежал ее мигом: заголовок гласил, что ежегодно в Осло, а не то во всей стране, точно не помню, пропадает без вести столько-то и столько-то людей. Но тот, кого я прозвал Ужом, мгновенно убрал вырезку, только я успел ее прочитать, и я гадал, не нарочно ли они положили ее на камин, я давно понял, что они всегда действуют неспроста. В тот раз мы пили чай с ромом и ели печенье, вообще я всегда терпеть не мог тесто в любом виде, но тут вдруг появилась та самая дама из ресторана: "Пожалуйста, угощайтесь, неужели вам не нравится мое печенье?" - с ударением на слове "мое". Притворное ее радушие испугало меня. Это была та самая высокая дама, которую я прозвал Амазонкой. Вся сцена будто разыгрывалась у меня внутри только так и бывает отныне - и казалась оттого нереальной, и оттого же невольно напрашивалась мысль, что, может, всегда так и было и только я один оставался "снаружи", вовне, а может, совсем напротив - это я жил будто под оболочкой, будто под скорлупой. Временами до меня доносился слабый, отдаленный шум лифта, и я подумал, что вокруг живут люди, совсем обыкновенные люди, и эти два слова "обыкновенные люди" привязались ко мне, прилипли так, словно обыкновенные люди, которых я не знал, всегда были рядом. Я вижу этих людей из окна: мужчин, которые по утрам садятся в машины и уезжают куда-то, каждый в свой обособленный мир, а вечером возвращаются назад и вылезают из машин; вижу я и детей - они играют, дерутся; слева, далеко-далеко, должно быть к востоку, вижу я детский скверик с его игрушечным инвентарем -горкой, с которой можно скатиться, лестницей, по которой лазают вверх и вниз. Все крошечное - будто вид с самолета. Вижу домашних хозяек с сумками и прозрачными пакетами, набитыми так, что, кажется, вот-вот треснут, набитыми всем тем, что необходимо людям, что они покупают изо дня в день, - вижу быт обыкновенных людей, о котором никогда не задумывался до сих пор. Вижу и сознаю: все это - часть жизни, часть жизни многих людей в этом городе - спутнике столицы. Должно быть, я прежде никогда не видел города-спутника, никогда не пытался представить себе, что скрывается за этим словом, я провел всю свою жизнь за чертежной доской, за письменным столом или в поездках, в разных медвежьих углах. Такие слова, как "рост города", да, совершенно верно, "рост города" - так это называется, - я привык воспринимать лишь в кавычках: об этом нет-нет бегло прочитаешь в газете, да и что с того, меня это не касается, и вообще, что означает "рост"? Что в городе стало больше людей? Убыстрился темп жизни? И то и другое, должно быть, всего стало больше, но меня это никак не касалось. Как не касалось меня никогда само это слово - "город-спутник", оно даже не оседало в мозгу. Спутник - это небесное тело, вращающееся вокруг другого небесного тела, второе и есть главное, а первое, значит, всего лишь спутник второго. Так, кажется. И пригород здешний, значит, город-спутник. Спутник другого города, который больше, важнее первого, по крайней мере так принято считать. Мысль невольно перескакивает к другим спутникам, к планетам, где существует иная жизнь: интересно, какая планета или какие планеты считаются важнее других. Планета вовне тебя самого... мысль бессильна такое вообразить. Я и сам - такая планета, то бишь "Он". Сколько я стоял здесь у окна, разглядывая крошечных моих спутников с их машинами и продуктовыми сумками. Так жили они всегда, так живут и поныне, просто я об этом не знал, меня это не занимало. Значит, люди не интересовали меня? Да или нет? А сейчас интересуют меня все эти муравьи, ползающие внизу, под окном?.. Интересуют?

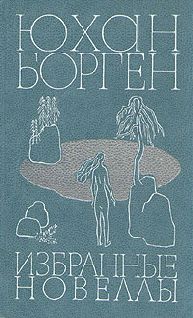
![Жоэль Помра - Торговцы [=Торгаши]](/uploads/posts/books/271530/271530.jpg)