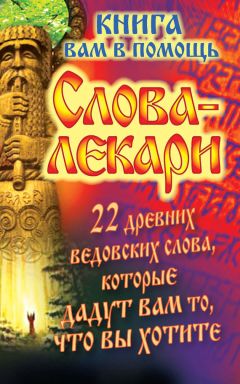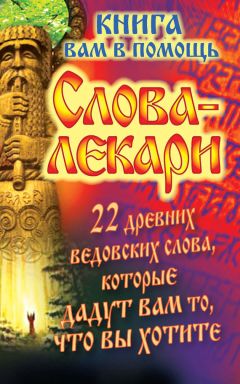Андре Мальро - Надежда
— Он говорит, я должна уехать, — сказала женщина. — Он говорит, что не может сражаться как нужно, если я здесь.
— Он безусловно прав, — сказал Гарсиа.
— Но я не смогу жить, если буду знать, что он воюет здесь… и если не буду знать, что с ним…
Ее словам под сурдинку аккомпанировал второй аккордеон; еще один слепец, перед которым стояла плошка, продолжал музыку, не доигранную первым.
Все женщины одинаковы, подумал Гарсиа. Если она уедет, она переживет разлуку, помучится, но переживет; а если останется, его убьют.
Лица женщины он не видел: ростом она была гораздо меньше, чем он, и ее прятали тени прохожих.
— Зачем тебе оставаться? — мягко спросил Гернико.
— Я не боюсь смерти… Беда в том, что мне надо хорошо питаться, а здесь нельзя будет: я беременна…
Гарсиа не расслышал ответа Гернико. Женщина исчезла в другом потоке теней.
— Что можно сделать? — сказал Гернико.
Их обогнали милисиано в комбинезонах. Какие-то тени возводили баррикаду поперек разрытой улицы.
— В котором часу ты уезжаешь? — спросил Гарсиа.
— Я не уезжаю.
Если фашисты войдут в Мадрид, Гернико будет расстрелян одним из первых. Гарсиа не смотрел на друга, но видел, как тот шагает рядом: светлые усики, взлохмаченные волосы, длинные худые руки; и его физическая беззащитность вызывала у Гарсиа то же мучительное чувство, какое вызывала у него беззащитность детей, ибо она так же исключала всякую мысль о самообороне; Гернико не будет отбиваться, он будет убит.
Ни тот ни другой не заговаривали о мадридском санитарном транспорте; оба знали, что такового не существует.
— Пока возможно помогать революции, ей нужно помогать. Но идти на верную смерть нет никакого смысла, мой добрый друг. Республика — не вопрос географии, взятие одного города еще ничего не решает.
— Я был на Пуэрта-дель-Соль в день мятежа казармы Ла-Монтанья, когда из всех окон палили по толпе. На улице все залегли: площадь была покрыта людьми, прижавшимися к земле под пулями фашистов. Через день я пошел в министерство. Перед дверью стояла очередь: женщины хотели сдавать кровь для переливания. Я дважды видел испанский народ. Эта война — его война, в любом случае; и я останусь с ним. В Мадриде двести тысяч рабочих, у которых нет автомашин, чтобы доехать до Валенсии…
У Гернико есть жена и дети, их жизнь значит для него больше, чем все, что мог бы сказать ему Гарсиа, но его решение принято, и Гарсиа горько было думать, что их разговор, который может оказаться последним, сбивается на диспут.
Гернико отмахнулся от чего-то невидимого узкой длинной рукой.
— Может, уеду в последний момент, — сказал он.
Но Гарсиа не сомневался, что он говорит неправду.
Послышался смутный шум шагов, гул нарастал, словно предшествовал отряду, который пересек освещенную полосу.
— Землекопы, — сказал Гарсиа.
Они направлялись к последним клочкам земли перед Карабанчелем, еще остававшимся в руках у республиканцев, рыть траншеи или закладывать мины. Впереди какие-то тени, размытые туманом, строили еще одну баррикаду.
— Они вот остаются же, — сказал Гернико.
— Они смогут отойти по Гуадалахарской дороге. А тебя схватят либо у тебя дома, либо в ассоциации: и там, и там — мышеловка.
Гернико снова отмахнулся тем же смущенно-фаталистическим жестом. Еще слепой, снова «Интернационал»: теперь слепые играли только это. На каждой улице все новые тени возводили все те же баррикады.
— Нам, писателям-христианам, выпало на долю, пожалуй, больше обязательств, чем всем прочим, — снова заговорил Гернико.
Они проходили мимо церкви Алькала. Гернико неопределенно повел рукою в ее сторону; по звуку его голоса Гарсиа понял, что он горько усмехается.
— Во французской Каталонии я слушал проповедь священника-фашиста. Тема: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными»[99]. После проповеди старик Сарасола пошел побеседовать с проповедником, но тот успел исчезнуть. Сарасола сказал мне: «У тех, кто познал Христа, всегда хоть что-то да останется; из всех, кого я здесь видел, этот человек — единственный, кто устыдился…»
Проехал грузовик, набитый милисиано, они сидели на корточках, сгрудившись смутной массой, из которой торчали дула допотопных пулеметов. Гернико продолжал, понизив голос:
— Но только, пойми меня, когда я вижу, что они творят, стыдно становится мне, а не кому-то другому…
Гарсиа хотел было ответить, но путь ему преградил малорослый милисиано с мордочкой хорька.
— Они будут здесь завтра!
— Кто такой? — спросил вполголоса Гернико.
— Бывший писарь эскадрильи Маньена.
— От этого правительства толку не добьешься, — бормотал хорек. — Десять дней назад я принес им проект о том, как наладить массовое производство микробов бруцеллеза. Пятнадцать лет разрабатывал, не прошу ни медяка: во имя борьбы с фашизмом! Они не пошевелились. И с бомбой моей было то же самое. Те завтра же будут здесь.
— Завелся! — сказал Гарсиа.
Но Камучини уже скрылся в ночной толпе, словно в театральном люке, под аккордеон, сопровождавший «Интернационалом» и его появление на сцене, и мгновенное исчезновение.
— Много у него таких, у Маньена? — спросил Гернико.
— Вначале хватало… Среди первых добровольцев у всех была легкая склонность либо к помешательству, либо к героизму. И то, и то подчас…
И узкие улочки, и широкая улица Алькала полнились особой атмосферой исторических канунов: пушки по-прежнему молчали, слышались только звуки аккордеона. Внезапно пулеметная очередь в глубине дальней улицы: кто-то из милисиано обстрелял автомашину-призрак.
И повсюду строительство баррикад. Гарсиа не очень-то верил в их эффективность, но эти баррикады, казалось, не уступают настоящим фортификационным сооружениям. В неизменном тумане все так же метались тени, и неизменно одна тень стояла неподвижно, потом вдруг шевелилась и снова застывала в неподвижности: это был организатор. В непрерывно сгущавшемся ирреальном тумане женщины и мужчины подносили материалы; рабочие из всех строительных профсоюзов организовали работы, а руководили ими начальники звеньев, в двухдневный срок подготовленные специалистами из пятого полка. И среди безмолвной фантасмагории умирающего старого Мадрида впервые, прорываясь сквозь все личные драмы, мечтания, безумства теней, мечущихся по улицам со своими тревогами и надеждами, вставала в тумане единая воля всего города, почти взятого в кольцо осады.
Огни фонарей, размытые туманом, светились смутными жалкими пятнами под доисторическими очертаниями вычурных многоэтажных зданий проспекта Алькала; Гарсиа обдумывал фразу друга: «Нам, писателям-христианам, выпало на долю, пожалуй, больше обязательств, чем всем прочим»…
— Какого дьявола ты еще можешь ждать от них? — спросил он, показав трубкой на очередную церковь.
Они проходили под электрическим фонарем. Гернико улыбнулся своей меланхолической улыбкой, придававшей лицу его то выражение, которое часто бывает у больных детей.
— Я-то верю в вечное бытие, не забывай…
Он взял Гарсиа под руку.
— От того, что совершается здесь ныне, не исключая и сожжение храмов в Каталонии, я жду для моей церкви большего, чем то, что принесло католической Испании ее последнее столетие, Гарсиа. Двадцать лет я наблюдаю и здесь, и в Андалусии, как отправляют свои требы церковнослужители; так вот, за эти двадцать лет я ни разу не видел католической Испании. Я видел обряды, а в душах — то же запустение, что на полях…
Все двери министерства внутренних дел на площади Пуэрта-дель-Соль были распахнуты. До мятежа в холле была выставка скульптуры. И всякого рода изваяния — группы, обнаженные фигуры, животные — дожидались марокканцев в просторном пустом зале, в котором отдавался стук далекой пишущей машинки: кто-то еще оставался здесь…
Но на всех улицах, лучами расходившихся от площади, неизменные, как туман, все те же тени трудились над все теми же баррикадами.
— Правда, что Кабальеро советовался с тобою, не открыть ли церкви?
— Правда.
— Что ты ответил?
— Нет, разумеется.
— Что, открывать не надо?
— Конечно. Вас-то удивляет такой ответ, но католиков ничуть. Если завтра меня ждет расстрел, многое в моем прошлом вызовет у меня страх, как у всякого человека; но этот ответ — ни малейшего. Я не протестант, не еретик: я испанец-католик. Был бы ты богословом, я сказал бы тебе, что взываю к душе Церкви, не приемля плотской ее оболочки; но оставим это. Вера ведь никоим образом не исключает любви! Надежда ведь никоим образом не может найти себе место в мире, который обосновывает свое право на существование, поклоняясь, словно идолу, знаменитому севильскому распятью, прозванному «Христос богачей» (недуг нашей церкви — не ереси, а симония[100]); надеяться не значит утверждать, что смысл существования мира — в испанской империи[101], в установлении порядка, обеспечивающего абсолютную тишину, поскольку те, кто страдает, прячутся, чтобы выплакаться!.. На каторге тоже порядок… Даже у самых пристойных из числа фашистов надежда зиждется только на гордыне; пусть так, но при чем тут Иисус Христос?